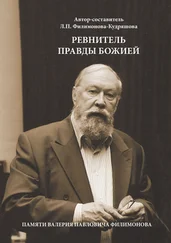Когда Лиза шла на работу, обнимала его, и ей казалось, что от него уже исходит запах тления, такой тонкий, сладковатый, пыльный. Мысленно говорила себе: я приду вечером, и ты обязательно будешь жив, мой маленький отец. Вечером расспрашивала его, Алишер с трудом вспоминал свой день, вдруг оживлялся, читал ей написанное, но быстро уставал от разговоров.
На все махал рукой куда-то, как будто все там, где-то далеко. Казалось, сам он уже был не здесь, молчаливо простился со всеми и теперь смотрит послушной медлительной тенью.
Возвращаясь поздно, когда все уже спали, она радовалась, видя Ходжаева в темноте двора при тусклом свете свечи или керосиновой лампы. Папа Карло во чреве тунца, как на картинке в книжке про Пиноккио.
На работе Лиза привыкла к быстрой смерти, отчаянной, непокорной. Дома она видела постепенное, ясное, даже желанное угасание старика, приглашение разделить с ним и неизбежность, и облегчение ухода.
Он умер днем. Пошел в квартиру за книгами и на лестнице упал. Соседка побежала к Лизе в больницу. Там попросили военных, они дали машину, доехали быстро. У ворот их встретил соседский мальчик: тетя Лиза, я первый дедушку увидел, он на лестнице лежал.
Лиза испугалась, закричала: ты почему в дом пошел? Нельзя, ты же знаешь что нельзя. Упадет на тебя, больно будет!
Он испугался, заревел: я только за лошадкой.
Лиза разоралась на соседей: смотрите за подъездами! Все закрыть. Охраняйте от детей, мать вашу!
Ходжаева положили на скамейку, покрыли простыней. Соседи толпились рядом. Она не решилась открывать его лицо при детях, боялась испугать их, любопытно тянущих шеи посмотреть. Встала на колени, обняла. Давно понимала, что не долго ему, что не сегодня-завтра, в любой момент. Казалось, была готова. И все равно не ожидала так, без нее, один. Наверно, есть большая милость для мужчин — умереть одному, с достоинством, не показав никому отвратительное естество смерти, свое бессилие перед ней. Вот и ты покинул меня, мой верный отец!
Несмотря на военное положение, академия засуетилась: нельзя на старое кладбище, он профессор, академик, понесли тяжелую утрату, надо на коммунистическое, мраморную плиту поставим, на доме мемориальную доску, не забудем, вовеки благодарны, поминки в академии наук с речами по правилам, студентов построим на почетный караул.
Лиза отказалась, у Ходжаевых есть могила, там его родители, жена, и не спорьте. Там на камне было имя его брата Султана, пропавшего в Соловках, и лизину мать подселили туда, большая семья, положат и Лизу в ее время.
Самая глубокая братская могила — это душа осиротевшего человека. Каждый передает своих умерших тому, кто провожает его. Со временем живая душа обрастает ими, ушедшими, как корабль ракушками в темной пучине. Иногда они врываются в сны, или в мгновения пустой несвободы, когда едешь в трамвае, или ждешь в очереди. Тянут за руку, пойдем, посидим на берегу Леты, вспомним.
Не могу, извини, меня сейчас другие ждут. Вот умру, приду к тебе, и посидим на берегах, утолим память, а потом счастливо забудем всех, теперь невнятных, неузнаваемых, уносимых колючим ветром.
Лизе стало трудно отделять свою жизнь от жизни умерших, не поддаваться обольщению прожить еще раз с ними во сне, в мечтах, в воспоминаниях. Раньше помогало выпить, и они уходили. Теперь нет, вино превращало ее в жену Лота. Внутри проносились они, кружились, множились. Согнуться, закрыть глаза, свернуться, укрыться, обнять их всех и замереть.
— Ну что, возвращаемся? — Фира настроилась решительно, — бессмысленный Суккот какой-то, если рухнет, так во двор же, и всех уж точно придавит.
Квартира выглядела как покинутая после погрома. Стекла вылетели из шкафов, вывалились книги, в маленькой комнате упала люстра. На кухне пол усеян осколками разбитой посуды, разорванными пачками риса, в них копошилась толстая мышь. И кругом пыль, толстый слой, бархатный на ощупь. Разбирались пару дней, очень устали, часто присаживались на балконе отдохнуть, покурить. Все еще потряхивало, но уже не сильно, не страшно.
Ходили смотреть на большую трещину на доме. Единственная, но глубокая, длинная вдоль бокового фасада. Дети во дворе гордились: и у нас есть своя трещина!
Лиза отложила книги Ходжаева для его брата в кишлак и в университет, там обещали мемориальный зал в библиотеке.
Когда разбирала книги, нашла его дневники. Девять толстых тетрадей, в коленкоровых обложках, все синие, любимый Эльвирин цвет.
Он писал ей, умершей, почти каждый день.
Читать дальше
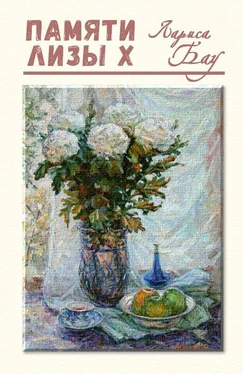





![Станислав Сергеев - Памяти не предав - Памяти не предав. И снова война. Время войны [сборник litres]](/books/388335/stanislav-sergeev-pamyati-ne-predav-pamyati-ne-pred-thumb.webp)