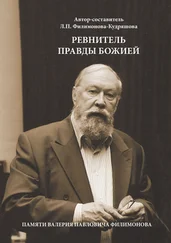Особенно сейчас, среди оттепели газет, страсти разоблачений, иллюзии свободы. Люди говорили вслух с детским удивлением: вот, я говорю, что хочу, и никто не наказал! Пока.
Она шла мимо союза писателей, зашла во двор, к ним в столовую, купила полкило плова в плоскую алюминиевую кастрюльку. Всегда носила в сумке кастрюльку, с голодных времен на случай везения.
Она шла на урок английского к Этель Львовне, старой Фириной подружке.
Этель Львовна была настоящая англичанка, на каком-то очередном Интернационале познакомилась с русским коммунистом, вышла за него замуж в тридцать шестом году и сразу по приезде оба угодили в лагеря.
Исключительное однообразие советской жизни в лагере не сломило Этель, она как-то пережила это и оказалась в пятидесятых годах в Ташкенте, это было удачно, тепло и в какой-то мере сытно.
Изредка ее посещала мысль доехать до Москвы, пойти в посольство, вернуть британское гражданство, уехать на родину и найти свою семью, но ни сил, ни денег уже не было. Она привыкла не искать смысл в неежедневных целях, борьба за то, чтобы не умереть сегодня и дотянуть до нар к ночи, меняет сознание. Оно становится божьим в самом смиренном смысле этого слова: как птицы небесные, как нищие духом, блаженные хромые и прочие, у которых нет места ни гордости, ни ценности себя, ни духу божьему внутри нас, или них…
Короче, Ethel стала Этель Львовной в комнатке типичного коммунального ташкентского дома, такого знакомого Лизе: темноватая комната и общий двор. Во дворе стол с клеенкой, уборная, колонка для воды. Знакомое Лизе излишнее братство, обиды туда-сюда, прощения с пирогами. Вроде как жизнь на виду, а за ней тайны, тайны…
Этель Львовна отказывалась брать деньги, поэтому Лиза всегда приходила с едой и лекарствами.
Однажды застала Этель рисующей карандашом портреты в стиле старинных фотографий.
— Это мой брат с детьми, это мама, — показывала она, переворачивая листы альбома.
Нарисованы подробно, сережки, прически, складки на платьях, обязательные цветы в кадках.
— После ареста мужа я сожгла все, все свои семейные английские фотографии уничтожила. Понимаешь, Лиза, мной овладел бессмысленный подлый страх. Как будто не знают они про меня все до конца, до самого последнего. А что не знают, то придумают сами. Теперь пытаюсь вспомнить, как выглядели мои родные.
— Этель, я еду в Москву на конференцию. Я могу пойти в посольство, найти возможность связаться с вашей семьей.
— Меня прокляли родственники, я в Англии сидела в тюрьме за коммунизм, и поехала в Испанию воевать. Но, может быть, они смягчились. В конце концов они оказались правы.
В посольство Лизу не пустили. То есть сказали, что она может отправить письмо почтой. Как же, почтой, доставят непременно!
Москва шумела свежим летним дождем, юной толпой. Лизе казалось, что в городе все молоды, все бегут куда-то, у всех большие цели, крепкая поступь. Когда-то она тоже чувствовала так, даже была среди них, полная надежд под кремлевскими звездами. Покаталась на метро, на трамвае по бульварному кольцу. Она ходила в театр, в магазины, в кафе. В Политехническом музее выступали поэты, и она не могла это пропустить.
Поэты были уже известны, и в Ташкенте она читала их в Литературной газете. Один рассказывал о своем визите в Англию. Лиза подошла к нему после выступления, коротко объяснила, что ей нужно найти родных приятельницы, англичанки. Она застряла в СССР в то время, вы понимаете, долго не было никакой связи с родными.
— Я не смогу вам помочь, я ездил в составе делегации советских поэтов. Мы не общались с населением, — поэт был явно раздражен, теребил шейный платок. К нему торопились молодые поклонницы просить автографы. Скоро ее оттеснили девушки в шуршащих плащах.
Лиза не сдавалась. Купила английскую коммунистическую газету «Морнинг стар», написала туда. Отправлять письма за границу можно было только на главпочтампте на Кировской. Вспомнила здание, высокое, прохладное, витиеватые решетки, сто лет назад она приходила сюда с матерью.
Сохранилось несколько темных высоких деревянных столов с углубленными фарфоровыми чернильницами, скрипучими ручками на вереевках. Пресспапье на цепочке уже не было, валялись рваные куски промокашки. Лиза остановилась: здравствуйте, мои давние знакомые великаны. В детстве Лиза пряталась под ними, перебегала, согнувшись, от одного к другому, Робин Гуд в замке герцога Кентерберийского.
— Ты не найдешь меня, коварный герцог, — шептала маленькая Лиза, прячась под столом, пока мать писала. Наверно, мать писала письма своей мачехе в Варшаву. И они приходили? Вскрытые не один раз с каждой стороны?
Читать дальше
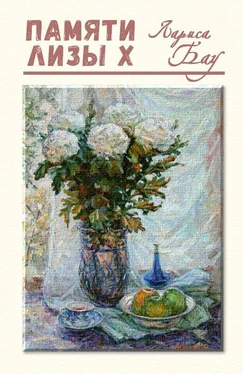





![Станислав Сергеев - Памяти не предав - Памяти не предав. И снова война. Время войны [сборник litres]](/books/388335/stanislav-sergeev-pamyati-ne-predav-pamyati-ne-pred-thumb.webp)