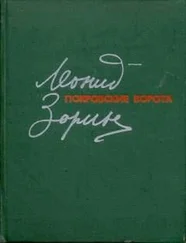Вера в спасительное и целебное значение письменности также имеет свое основание. И, в конце концов, если его тянет воскресить на бумаге эти, как выяснилось, самые насыщенные дни его жизни, зачем же отказывать себе в этой горьковатой радости?
Однако осуществить задуманное было трудней, чем ему представлялось. Оказалось, что вспоминать ему было интереснее, чем записывать. И потребовались долгие месяцы на то, на что прежде ушли бы считанные дни. Картины и образы в его сознании были так зримы, почти осязаемы – и это тоже мешало писать. Бывало, часами, отложив перо в сторону, сидел он с закрытыми глазами и видел тот или иной день, который память вновь наполнила кровью, тот или иной час, иногда и минуту, видел отчетливо, в мельчайших подробностях, порой возникало ощущение, что воспоминание переходит в галлюцинации.
Виделись скверы и перекрестки, излюбленные места их прогулок, его московское жилье, книжные переплеты, чуть подсвеченные настольной лампой, тахта с неизменно выпиравшей пружиной, где она любила сидеть, поджав под себя свои крупные ноги. Когда в комнате свет был погашен, на полки падал робкий отблеск всю ночь горевшего на противоположной стороне фонаря, слышно было, как ветер свистит, и едва было видно узкое бледное лицо, смутно белевшее на подушке.
Но странное дело – всякий раз, какое бы ни явилось видение, ни на миг не затихал спор, будто что-то было предопределенное в этой бессмысленной конфронтации. И тогда он досадовал на себя, что за несколько часов их последней встречи он не нашел важнейших слов, единственных, необходимых слов, которые все бы ей объяснили.
Спустя миг он уже улыбался – когда и чего достигали слова, вечная стойкая иллюзия! Да и сумел ли бы он с успехом все объяснить самому себе? И все же так снова тянуло увидеться, доспорить, договорить до конца. Однако этому не суждено было сбыться. Она погибла в аварии, возвращаясь из дальней командировки. Он узнал об этом спустя два месяца. Стоял холодный и солнечный день ранней весны, так похожий на тот далекий, почти мифический четверг, который все же когда-то действительно был в его жизни. И он вспомнил ее такой, какой тогда увидел, – не знающей, куда девать свои крупные руки, глядящей на него во все глаза. Вот-вот она заговорит, и он услышит эти высокие полудетские нотки, задыхающийся от волнения бубенец. Вспомнилось, как она прервала его, когда он предположил, что вряд ли они увидятся снова.
– Ну, ну, не хорони себя раньше времени.
Именно так она сказала. Сама она чувствовала себя бессмертной. Это было так естественно для нее. А впрочем, кто же это сказал: пока ты молод, ты бессмертен. А она была, в сущности, еще молода. Она совсем недавно вступила в это великое пятнадцатилетие между тридцатью пятью и пятьюдесятью, когда люди кипучи, полны замыслов, готовы на всяческие усилия.
Он постарался представить ее в ту минуту, когда самолет, кренясь и дрожа, шел в море, – поверила ли она тогда, что жизнь кончена? И всколыхнулось ли в ней то давнее, вложенное в душу матерью или бабкой, пожалела ли она, что нет с ней “смертного” узелка с вещами в дальнюю дорогу? Нет, она не верила в свой конец и тогда. Либо он показался ей концом света. Как это ни удивительно, у тех, кто не верит в райские кущи на небесах, мысль о смерти почти неизбежно приобретает эсхатологический характер, столь неуместный для материалистов. Еще одно из несоответствий, о которых он часто ей говорил.
Что поделаешь! Как бы ни отрицал того разум, твое сердце, в котором зародились все наиболее важные мысли, сердце знает, что ты и вселенная нерасторжимы. И тебе, хоронившему стольких людей, не оспорить этого убеждения. Разве же сердце твое не право? Разве мир, из которого ушли те, кого ты в нем знал, уже не совсем иной мир? Кто-то скажет, что в Палате Мер и Весов этот довод не может быть рассмотрен и что он обретает свою ценность только в зарифмованном виде. А хоть бы и так. Поэзия не глупее точных наук.
Как бы то ни было, не с кем спорить, нечего доказывать, незачем жить. Задумаемся, что его ждет? Он вспомнил, сколько кокетливых гимнов в честь старости он услышал или прочел. Время покоя, гармонии, мудрости. Право, все это трудно понять. Знать, что не суждено не то что радости – даже ожидания радости, о самой же радости нечего и говорить. А что делать в такой вот весенний вечер, когда вспоминаются былые тревоги. Книги? И они опостылеют. Может случиться и более страшное – надоешь самому себе.
В самом деле, бывают несхожие времена. Наступаем пора, сквозь которую проходит поворот истории, и люди, живущие в эту пору, ощущают движение и скрежет исполинского маховика, они живут особою жизнью – нервной, острой, страстной. Катастрофизм времени поляризует группы, кланы, даже друзей, даже родственников. Насыщенность личной судьбы становится едва ли не равновеликой насыщенности эпохи. И есть времена, чей облик хранит кажущееся спокойствие, когда история, совершая свое движение, почти не отражается внешне на личных судьбах. Разумеется, это впечатление неполно. Возможно, недостаточность действия обостряет духовную жизнь. И все же как часто старость уравнивает самые полярные периоды – и звучащие тектоническим гулом, и относительно стабильные. И по забавной ассоциации ему подумалось, что и людей уравнивают не достоинства, а пороки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу