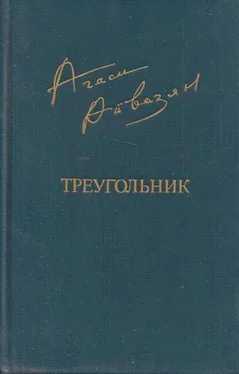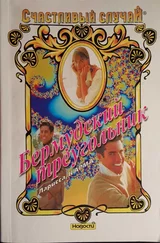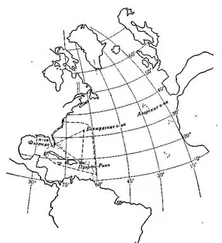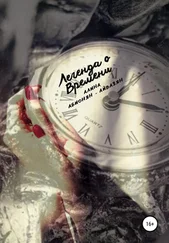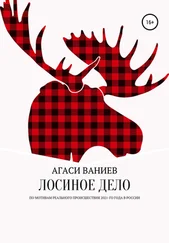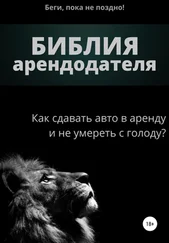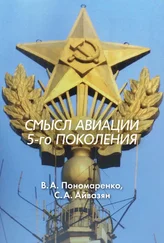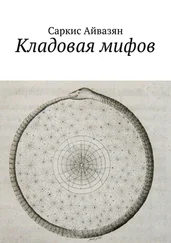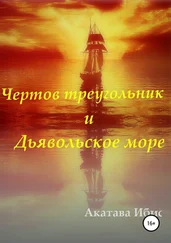Десятки и десятки героев в этой книге.
Нищий армянский буржуа Мелик-Каракозов, издававший газету тиражом в 100 штук и выступавший с речами в тифлисском национальном собрании. Безрукий рисовальщик афиш Таши. Некто Вартанов, бывший чиновник «Мещанской управы», бывший житель села Чархлу, «мучительно старавшийся выскочить из кожи простолюдина, избавиться от собственной физиономии, от всего, что получил от предков». Бездомный тифлисец Кара-Вурди, который «продает в духанах и во дворах свои мысли, придумывает тосты, одаривает языком надгробные камни», — надо же во что-то одеться и где-то поесть. Метранпаж типографии, где печатался «Вестник Закавказских железных дорог» (он сидит на верблюде, установив перед собой пулемет — время гражданской войны, — и грызет сушеную воблу). Последний отпрыск трусливого солдата — храбрый генерал Барсегов. Пожилой крестьянин, «человек семейный, занятой», из тех, у которых «тысяча забот и никогда не было времени сходить куда-нибудь». Он решил пешком обойти всю Армению и где-то, не то около Бжни, не то возле Ошакана, нашел те несколько метров земли, куда не ступала нога чужеземца — ведь не будь такого клочка земли, как бы уцелела Армения?.. Тифлисские кинто, карачохели и шарманщики, студенты театрального института и сосланные в Бухару кулаки, циркачи и разбойники, художники и средневековый монах, милиционер, балерины, учитель… Удивительна эта способность Айвазяна несколькими лаконичными фразами, несколькими штрихами нарисовать человека «во весь его рост». Как правило, его рассказы коротки — несколько страничек. Но так насыщены они фактами прошлого, событиями настоящего, деяниями и мыслями героев, что кажутся развернутыми во времени и пространстве историями судеб. «Тифлис», «Вывески Тифлиса», «Евангелие от Авлабара», «Скандалисты» воспринимаются как своеобразные микроэпопеи.
Наивные и лукавые, простодушные и себе на уме, праведные и грешные его герои. Судьбе одних посвящены повести и рассказы, о других сказано всего несколько слов. Но каждый из них, по Айвазяну (это одна из излюбленных мыслей писателя), — часть человечества, людского сообщества, основанного на доброте, справедливости и любви. Именно высокие человеческие чувства — то всеобщее, что объединяет людей. Не корысть, ненависть, эгоизм, индивидуализм, разъединяющие людей, а именно высокие человеческие чувства.
А масштабы этих сообществ различны… Это может быть связь с небольшим кругом людей (в повести «Треугольник» — кузница, пятеро работающих в ней кузнецов Мкртычей). И это может быть родство со всем человечеством. Когда слова одного человека должны вобрать в себя «крик новорожденного, заветы предков, мудрость сострадания, муки ошибок, вечное стремление устроить свое будущее и упорядочить прошлое». Когда человек, собираясь убить другого, глядя в его лицо, замечает сходство с собой, понимает, что убивает тем самым самого себя… Айвазяну связь эта представляется настолько тесной, что все люди предстают в его книгах как бы единым существом. Каждый человек, считает писатель, несет в себе нечто общее и, значит, вмещает в себя многих. Как вобрал, например, в себя тифлисский художник Григор (тот самый, что нарисовал на стенах кабачка «Симпатия» Шекспира, Коперника, Раффи, царицу Тамар и Пушкина) многих своих земляков, и разговаривал с другим так, как будто сам с собой разговаривал, раскрывался перед другим, чтобы тот вобрал его в свою душу, узнавал сущность другого, чтобы обосновался этот другой человек в нем, в Григоре…
Неизвестное познается через известное — и мир прозы Айвазяна критики сравнивают с карнавалом, ярмаркой, цирковым представлением (непременно — грубоватые и печально-возвышенные шутки рыжего и белого клоунов, непременно — сопровождаемые традиционным «оп-ля!» и лукавой правдивостью на лице «коронные номера» фокусника), находят в его книгах отзвуки раблезианства, усматривают даже некоторое сходство его героев с персонажами «великого булгаковского бала Воланда»…
Думая о героях Айвазяна, всегда почему-то вспоминаешь картины Пиросмани, с их наивностью и вместе глубинной философской обобщенностью, и Маленького принца Экзюпери, за детским простодушием которого — счастливое прозрение, равноценное опыту и знанию зрелого ума: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь». И еще вспоминаешь театр. Этому, кстати, есть и вполне объективное объяснение: проза Айвазяна необычайно сценична. Правда, воспользовался этим не театр, а кинематограф. Знакомство широкого читателя с Айвазяном состоялось не по переводам книг, а через снятые по его сценариям прекрасные фильмы, один из которых — «Треугольник» — был удостоен Государственной премии Армении. Но вспоминается именно театр — «Кавказский меловой круг» Брехта. В сюжет старинной восточной легенды вплетается сюжет реальный, национальные мотивы освещаются светом философского и поэтического обобщения, к этому добавляется еще чуть-чуть духа современности, взгляда на мир из наших уже дней, — и все это создает ощущение одновременно трагичности и праздничности человеческого существования, столь напряженно звучащее в прозе Айвазяна.
Читать дальше