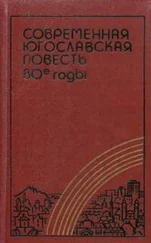Но беспомощно поспешая за ним, мы уже боялись, что не догоним его, потому что на самом-то деле он бежал быстрее нас и с каждой минутой удалялся все больше, словно там, на краю пожелтевшего плоскогорья, его ожидало нечто, к чему он отчаянно стремился. Что нам еще оставалось, как не возненавидеть его? Разумеется, возненавидев его, мы в первый миг даже не подозревали о том, насколько это сильное и удивительное чувство, определившее наше отношение к нему, стерло все различия в побуждениях, по которым мы до сих пор его преследовали, так что вскоре, сближенные и чем-то ставшие одинаковыми даже внешне, мы теперь походили друг на друга: потные, с искаженными лицами, устремленные вперед, мы бежали в одном ритме и дышали одним дыханием, точно стая измученных собак, чьи силы поддерживались яростью и ненавистью.
Пока он искал ответа на эти вопросы, жизнь его — из собственной смерти, в которую он смотрел точно в темное зеркало, — внезапно, с ужасающей ясностью отразилась подобно некоей картине, с неверными контурами и кричащими красками, заплясала перед глазами, неожиданно открывая, что смысл человеческого существования прежде всего заключается в любви и красоте, следовательно, во всем том, чего на этой выцветшей и искаженной картине его жизни вовсе не бывало. Он был взволнован постижением этой чудесной и простой тайны, всегда ускользавшей от него, и ему показалось, будто местность вокруг преображается: зубчатые и черные вершины гор становились прозрачными и, подобно утопающим теням, растворялись в лоскутном, пестром своде неба; острая трава, совсем недавно опутывавшая его ноги, становилась мягче и голубее, а целая эта колышущаяся равнина казалась ему морем! Однако всеобщая перемена не удивила его. Он понимал, что зримое в нем преломляется иначе, ибо он уже был в состоянии во всем обнаружить ту потаенную красоту мира, которому принадлежал, и ощутить любовь ко всему, что этот мир составляло. Он уже верил, что ему удастся обмануть свою судьбу. Должно быть, поэтому он и бежал быстрее, сознавая, что в безумной гонке его поддерживают теперь не страх, не отчаяние, но лишь та трепетная мысль о возможности подлинного спасения, мысль, от которой он все больше приходил в восторг, он спотыкался, чувствуя, как у него в груди ширится огненная волна, а тело полыхает внезапной и необъяснимой тоской по морю!
По существу, наша ненависть к нему была равна самому удивительному и самому жгучему желанию.
Он желал в тот миг услышать не поддающееся разгадке звучание волн, бьющихся о берег; усыпляющую тишину штиля тех ослепительных дней, когда на потемневших камнях согреваются лишаи, а перезрелые, потрескавшиеся смоквы истекают сахарным соком; он желал услышать то высокое, почти болезненное стрекотание невидимых кузнечиков; почувствовать горький и едкий запах соли, дегтя, морской рыбы, высохших водорослей, йода, красного вина, прогорклого оливкового масла; он желал увидеть тихие ночи под низким небом, которое, подобно серебристому колоколу, мерцает в недрах морской пучины; он желал оказаться на каком-нибудь пустынном южном пляже, возле Будвы, где, вытянувшись на раскаленном песке, будет лежать один, неподвижный, опьяненный всем сущим, словно оно создано ради него; и на грани отчаяния он желал жаркого, бесстыдного женского тела, оголодавшего от солнца и ожидания, тела, в которое он погрузится целиком, позабыв о смерти и времени!
Мы хотели поскорее догнать его и за все испытанные нами муки и за все беды, сопутствовавшие нам, как могли, сурово наказать. Охваченные этим неодолимым желанием, мы не в силах были удержаться, чтобы короткими, отрывистыми возгласами и яростными воплями, которых он, к сожалению, не мог слышать, не обещать ему, что мы раздавим его, как змею, пока последняя крупица плоти не отвалится с его тела, а кожа не станет синей, как индиго; мы вырвем ему ногти и выдернем зубы; мы набьем ему рот землей; мы наплюем ему в глаза; и наконец, пока он будет жить и понимать, что с ним творится, мы вырвем у него сердце, ежели оно у него вообще существует!
В этот дивный миг, когда, сгорая от тоски по морю, он обнимал весь неоглядный мир, ибо сам к нему принадлежал и знал, что будет принадлежать до последнего дыхания, ему и в голову не приходило, что его израненные ступни оставляют на смятой траве кровавый след. Глаза у него перестали болеть, и он уже не защищал их ладонью от слишком сильного света, а в волнующемся пространстве, границы которого постоянно раздвигались, он не чувствовал себя мелким и беспомощным, как совсем недавно.
Читать дальше