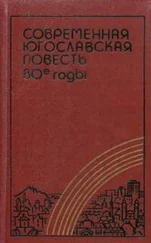Учо поднял голову от стола и разгладил засаленные уголки на воротничке своей рубашки.
— Что это вы вдруг забурлили, точно я вам сказал: прирежьте короля?! — сказал он и многозначительно поднял брови, словно ожидая приговора. — Если вы не сделаете, я сам. Жик! — Он резко провел ребром ладони по своей шее. — Жик! И баржа наша. Двинемся по Дунаю, как в Ноевом ковчеге, с божьего благословения, и помашем всем генералам и воеводам: до свидания, сервус, господа… Jawohl!
Люди за столом, к которым он обращался, понимающе переглянулись, чего, мол, слушать его. Это были трое мужчин средних лет с мутными усталыми глазами, словно затянутыми пеленой, скрывавшей их цвет и блеск. Они были в рабочей одежде, перепачканной влажной угольной пылью. Руки, как у Данилы, узловатые, с мозолистыми ладонями, а под ногтями чернота. Молча потягивали они пиво.
Учо все говорил, одержимый идеей своего помраченного разума — уплыть на барже по Дунаю, переводил с одного на другого глаза, горевшие недобрым светом. Он пристально вглядывался в их лица, ожидая ответа на свое предложение — чтобы они взяли на себя ту часть дела, которая ему не под силу.
— На барже мы доплыли бы до самого Белграда. Вы представляете? — напомнил он им. — Прямо в Белград… — добавил он с ностальгическим пафосом, а затем, склонившись к ним, шепнул: — Надо только прирезать газду Стеву. Жик! — и готово. Баржа наша… Ладно… если вы не хотите, пусть кто-нибудь из вас научит меня, как это делается, а Стеву я…
— Учо, дай ты нам с миром выпить свое пиво, — попросил один из них.
Глаза Учо погасли, лицо грустно вытянулось. Он медленно поднял голову, растерянно улыбнулся и стал пятиться от стола, поправляя уголки засаленного воротничка своей рубашки.
— Ух, какие вы… А баржа поплыла бы по Дунаю, — прошептал он и повернулся к ним спиной.
Филипп и нищий Лазар Симич пришли на баржу уже ближе к полуночи. Как и договаривались, первым вошел Лазар, чуть позже Филипп. Они сели далеко один от другого и вели себя так, точно вообще не замечают друг друга, и никто из оставшихся посетителей не догадывался, что они добрые знакомые. Это была идея Филиппа. Предполагая, что за ним следят и что на барже окажется кто-нибудь, кто знает его, он считал, что разумнее будет поступить именно таким образом. По пути на баржу он думал об этом и был попросту поражен поведением Симича. Ни единым словом тот не обмолвился, что боится, направляясь с ним в это куда как опасное сборище эмигрантов, среди которых мог находиться и убийца капитана Радича.
Теперь это был другой человек, не тот нищий, здоровые руки которого в первый момент, когда он открыл ему свой обман, ужасали куда больше, чем пустой рукав; не тот, в ком он усомнился — не провокатор ли, подосланный, чтобы сообщить весть о жестокой расправе с капитаном и напомнить ему, что он, Филипп Ивич, полковник с выездной визой в кармане, полученной в коммунистическом посольстве, ничем не отличается от того несчастного, которого зарезали и бросили в сточный венский канал. Филипп шагал с Симичем твердо, без колебаний, как со старым и верным другом. В душе он был благодарен мертвому капитану за то, что тот послал к нему Лазара, такого, каков он есть: бывшего унтер-офицера запаса, крестьянина Лазара Симича, который сейчас, не скрывая набегающих на глаза слез, рассказывал, как стыдно ему за то, что в безумном политиканском раже он поверил, будто плюет на свои сливнянки и яблони, которые перестанут плодоносить, если хоть чуть заразятся коммунистической бациллой, и которые тем не менее сейчас плодоносили. Нескончаемые бессонные ночи провел он в тоске по сельским нивам, и мотыгу во сне видел, и руки свои, напрасно тянущиеся к ней, — а она уплывала, точно отрекалась и пугалась знакомых ладоней, уплывала и манила его к реке, чтобы он омылся ее водою или утопился в ее омутах; кто знает, о чем должен был сказать ему этот сон, да только ноги у него отнялись — так бывает лишь во сне, — и остался он посреди луга под зелеными ольхами слушать журчание Топлицы…
Он каялся без ложного мужского стыда. По-крестьянски, рукавом вытирая глаза и нос, хотя в темноте мог бы и скрыть свои слезы.
…Отречься от родного дитя… Миладии говорили, зря, мол, она раздирала свою утробу, рождая своих сыновей, и выплакала все глаза в те безумные годы, тоскуя по нему, по своему Лазару, чьи озябшие руки согревала на своей груди, отдала ему все, что имела…
Нищий Лазар Симич в эту ночь был совсем непохож на себя. В свежевыбритом человеке было невозможно узнать несчастного калеку, из единственного глаза которого струятся печальные слезы и вызывают жалость, вынуждая отводить взгляд тех, кто чувствует себя неспособным исправить неправедность этого света. На нем был приличный готовый костюм, хотя и дешевый, держался он как человек хорошо воспитанный, совершенно случайно оказавшийся, на барже. По правде говоря, хозяин баржи и его прислуга, да и все завсегдатаи кафаны знали Лазара Симича, как и всякого другого гостя. Стева, который «делил по рангам» своих гостей, относил его к зеленой фасоли [74] Здесь игра слов: в сербскохорватском языке «зеленая фасоль» и «мелюзга» обозначаются одним словом.
, из которой в один прекрасный день можно будет сварить эмигрантскую чорбу. Если принимать его в этой связи за никчемный увядший стручок, никому и в голову не придет заинтересоваться, чем занимается Лазар, да он и сам никогда не помышлял открываться им. Порой он заходил сюда из простого желания поболтать со своими земляками, услышать какую-нибудь новость с родины, а чаще всего поесть чего-нибудь Стевиного приготовления, потому что приправы у него пахли Сербией.
Читать дальше