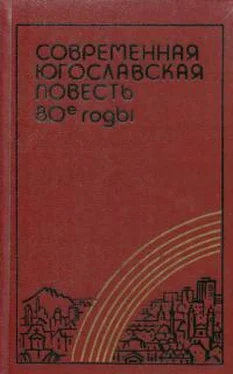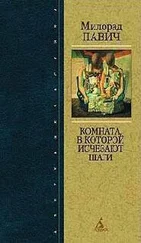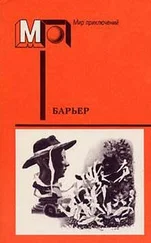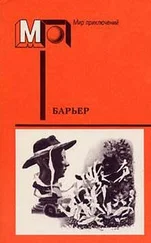— Я думал, мы заглянем в больницу к моему отцу. У него должно остаться что-нибудь от обеда.
— Пожалуй, — соглашался Эди, — а на Целовецкую сходим завтра.
За Любляницей через ворота мы проходили в больницу и стучали в окошко проходной терапевтического отделения; отец выглядывал, предлагал нам обойти здание и заглянуть в подсобку, где на полке нас ждал сверток с остатками от обеда больных и врачей. На улице мы сразу же разворачивали его: я брал себе только печенье, а все остальное вместе с засаленной бумагой, выскальзывающей из рук, протягивал Эди.
— Ты что, правда не будешь мясо? — спрашивал он меня.
Я кивал.
— Для меня оно слишком жирное. Меня уже от него рвало.
— Ну-ну, — довольно говорил Эди. — Не знаю, что будет, когда ты приохотишься к мясу.
— Не беспокойся, это не скоро случится.
— Не будешь есть мясо — не станешь мужиком.
— Знаю, — вторил я ему огорченно, — но ничего не поделаешь. О колбасе я и думать не могу. Эти кусочки сала, которых полно в рубленом мясе, для моего желудка хуже отравы.
— Это, конечно, из-за того, — со знанием дела рассуждал Эди, — что у вас на ужин всегда только кофе и хлеб. У тебя нетренированный желудок, и еще долго так будет.
Поглощая омлет, он поднимался на цыпочки и взмахивал рукой, как при подаче мяча.
— Я должен научиться играть в теннис. Я уверен, будь у меня настоящая ракетка, я бы расправился со всеми этими господами на кортах около Цекинового замка за неделю.
— Конечно, — поддакнул я, — вот только не знаю, смог бы ты обогнать Бориса Прелча, он же как молния.
— Это барахло-то! — оторопел Эди. — Да брось ты, настоящая теннисная ракетка стоит больше, чем он.
Я посмотрел, как ловко он, несмотря на отсутствие зубов, обдирает мясо с костей и облизывается, и сказал:
— Надеюсь, сегодня ты уже не будешь поедать мух.
— А почему бы нет? — удивился он. — Ведь я ем их не потому, что голоден, а ради заработка. Деньги теперь мне нужны, как никогда. Я должен купить не только часы, мопед, но и теннисное снаряжение, и ракетку — и как можно скорее.
Такие разговоры и планы в то время были еще возможны. В первые месяцы оккупации итальянцы вели себя как предприимчивые торговцы, которые принесли с собой в Любляну, на ее улицы и площади, ярмарочную сутолоку. Их набилось столько, военных и гражданских, оживленных, шумных, что город с его узкими улочками просто задыхался. У кондитерских и кафе, точно перед цирковым шатром или спортивным тиром, переполненные трамваи с трудом пробивали себе дорогу, то и дело раздавались звонки, что еще больше усиливало суматоху, люди выпрыгивали прямо на ходу, висели на подножках. Кричали и пели на каждом углу, особенно там, где мороженщик, которых развелось, словно грибов после дождя, останавливал свою тележку. Перед кинотеатрами извивались бесконечные очереди черных рубашек и зеленых альпийских шапочек, все заборы, стены и витрины были облеплены киноафишами, с которых улыбались Мари Дени, Алида Валли, Фоско Гьячетти, Амедео Наццари… Я уже не говорю о граммофонах, которыми итальянцы наводнили город, обеспечив музыкальное сопровождение всему этому шуму и гаму, из казарм и домов, занятых итальянцами, рвались арии знаменитых певцов — Бенджамино Джильи и других.
Эта перемена в Любляне, до тех пор спокойной и тихой, должна была иметь свой предел. И он настал: им оказалась «Fiera di Lubiana» — большая люблянская ярмарка, которая раскинулась на старой торговой площади за каштанами парка Тиволи, недалеко от Целовецкой улицы. В город, и без того переполненный, ринулись итальянки, торговки и их помощницы. Целыми днями они сидели или стояли у витрин и палаток, а вечером гуляли по городу, поднимая на ноги солдатню. И какие это были дамочки, какое лакомство, все эти миланки, римлянки, туринки, вдруг покинувшие свои огромные города и очутившиеся у нас в провинции! Все на высоких каблуках, в шелковых чулках с темным швом, который делал ноги еще стройнее, все кокетливо подкрашенные, шумные, стреляющие глазами. Они волновали даже нас, подростков, стремившихся привлечь к себе их внимание шалостями и мелкими кражами с лотков; обычно мы откручивали краны на временных фонтанах, тугая струя воды взлетала высоко в небо и неожиданно падала на женщин как дождик, очень здорово, если это случалось, когда они кокетничали с мужчинами. Тут, конечно, раздавался крик, мы давали деру, а они бегали за нами между ларьками на своих высоких пробковых каблуках, падали, разбивая в кровь колени, и сочно, по-итальянски, ругались.
Читать дальше