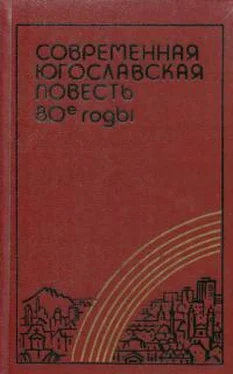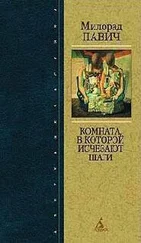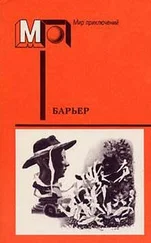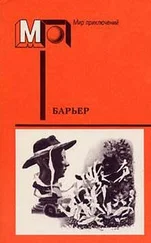Накапливание смутных воспоминаний об отце и их подавление периодически порождало у Теодора мучительные и еле сдерживаемые приступы стыда. Может, поэтому в самоочищении, в выделении собственного «я», вышедшего из хаоса, и находил Теодор спасение в постижении гармонии, в стремлении к ней. Это было постепенное, но дорогой ценой обретенное созревание его души.
Приезжая в Дыры навестить мать, Теодор украдкой навещал безымянную, без креста, могилу отца. (И всякий раз, направляясь к могиле, со страхом думал: вдруг кто-нибудь выбросил или переложил отцовы кости. Боялся, что не найдет могилы, что ее уже нет.) Теодор вглядывался в трухлявую, развалившуюся ограду, в холмик, размером с гроб, давно расползшийся, превратившийся в горку поросшей травой земли.
Милица знала о том, что Теодор ходит на могилу, и боялась, как бы кто его не заметил. Вообще боялась, когда он приезжал в Дыры, но особенно этих посещений могилы. Да и сам Теодор боялся (хотя это был какой-то иной страх — инстинктивный и необъяснимый), как бы кто не увидел его у могилы отца, и потому будто ненароком проходил мимо нее, разглядывая чужие могилы и церковь. Теодор не то чтобы опасался, просто его угнетала и терзала въевшаяся унаследованная раздвоенность. Он испытывал нечто близкое к ощущению недоброжелательных взглядов, инстинктивный страх и стыд. Больше тридцати лет, прошедших со смерти отца, Теодор не говорил о нем не только с людьми из Дыр, но и вообще ни с кем, даже с матерью и тетками. Он словно унаследовал вину отца из взглядов других, хотя сам никогда и ни в чем не считал себя виновным или заслуживающим наказания.
В заявлении о приеме в партию (когда на факультете ему предложили вступать, а потом приняли) Теодор написал, что отца у него расстреляли коммунисты. Это зачитали на собрании. Предложение о приеме его в партию было принято единогласно. Теодор тогда ощутил неловкость, будто в чем-то виноват, и не мог избавиться от чувства, что обманул и отца и партию. Это лежало тяжким грузом на душе, хотя он был одним из самых честных коммунистов в факультетской организации, а позднее и в Академии. Он свободно высказывал, что думал, и потому пользовался любовью — Теодор нередко бывал единственным, кто откровенно говорил нечто противоречащее принятой программе, но впоследствии признаваемое верным.
16
Мне кажется, Теодор всю жизнь хоронил мертвого отца. Непрестанно вытравливал его из своей памяти. Словно в гибели Джорджии было что-то постыдное, хотя вины Теодора или самого отца в этом не было. Ощущение это возникло у Теодора сразу после освобождения, весной 1945 года, когда Милица пожелала, чтобы об отце не упоминали. Она опасалась своего брата Симо, от которого не ждала ничего хорошего, хотя и прощала ему многое лишь за то, что, бывая в Дырах, он подбрасывал Теодора на руках.
Теодор же, несмотря на дядины объятия, чувствовал себя точно прокаженный. С малых лет убегал и прятался от родственника. Да и потом, в студенческие годы, это неестественное одиночество среди людей сохранилось.
Милица делала все, чтобы уберечь Теодора от чувства ненависти. Даже рассказала ему, что некоторые коммунисты плакали, когда узнали о смерти Джорджии. А опасаясь, что Теодор запомнил участие Симо в расстреле отца, придумала, будто тот плакал, узнав где-то в штабе о смерти Джорджии. В другой раз сказала, что Джорджию никто не убил бы («ведь он и мухи не обидел»), не будь «такого времени». Таким образом, Милица только дважды говорила с ним о Джорджии.
Позднее Теодор осознал стремление матери уберечь его от ненависти, и хотя знал, что все эти ее истории выдуманы, сам хотел в них поверить.
Милица понимала, что только учеба может поднять ее сына, и сделала все, чтобы он учился. Занимала деньги, продала украшения и даже землю. Она сохранила только дом и клочок земли возле Млаки, а также медали деда Вука. А когда Теодор окончил учение, сказала: «Медали деда заберешь после моей смерти, если, дай бог, отправимся на тот свет по порядку».
Однажды лютой зимой, когда в печке не было огня, Теодор увидел озябшие материнские пальцы, окоченевшие и морщинистые. Впоследствии Теодор испытывал страдания от мысли, что эти пальцы никто, кроме него, не увидит и что останутся они — мать и сын — безвестными (может, потому, что об отце не осталось памяти), будто и не появлялись на свет. И хотя это естественно, что люди появляются на свет безвестными да так и умирают, как трава в поле, Теодор задавался вопросом, откуда у него эта мысль и желание противиться природе забвения. Может, боязнь того, что он будет забыт на вечной ниве жизни, появившаяся у него во время душевного разлада, и заставила его уничтожить свою книгу. А может, именно тогда он преодолел тревожные переживания и вернулся к гармонии, к прелести забвения, прелести былинки, которая никнет и гибнет, никому не ведомая.
Читать дальше