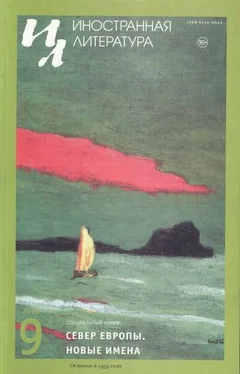Ночь с мамой в отделении неотложной помощи. Я заглянула к ней вчера, принесла рагу с горохом и нашла ее сидящей у стола. Есть она не могла, не могла поднести ложку ко рту правой рукой, единственной работающей. Я помогла ей, но, пока кормила, поняла, что она чувствует себя намного хуже, что-то случилось.
«Сначала я кормила Пера, потом тебя, а теперь ты кормишь меня», — сказала она. Я ничего не имела против того, чтобы покормить ее, наоборот, но что это, новый инсульт? Она просто пытается сделать вид, что все нормально, потому что не хочет в больницу? Я тоже не хотела, чтобы она снова попала в больницу, но что мне было делать? Ко всему она выглядела еще и слегка растерянной — решила, что мой брат с сыном только что были в Стокгольме и жили у нее.
Она сидит в инвалидном кресле и пробует навести порядок в кухне. Достать банку, чтобы переложить еду; она не может даже поднять стакан, наклоняет его на столе, чтобы попить. Ее руки неуклюжи, как крючья, неподвижны, глухи. От бессилия я позвонила Тумасу. Я не хочу, чтоб ее снова мучили в отделении скорой, но как принять на себя ответственность за решение не ехать туда? Ее лицо все худеет, заостряется. Череп проступает сквозь кожу, особенно на скулах, а глаза западают все глубже. Как две тусклые, черные, повернутые внутрь, точки. Она сидит, откинувшись на спинку кресла, бессильно отталкивается ногой от пола, продвигается на пять сантиметров вперед, просит меня подать стеклянную крышку.
В больнице я укутываю ее в плед, она такая тонкая, маленькая, уже как бы почти мертвая, не занимает места на каталке, острый профиль; поворачивается ко мне с Тумасом, хочет участвовать в разговоре, говорить о литературе, шутить. Санитары кареты скорой помощи бегут с ней на каталке по снегу, бегут, чтобы колеса каталки не застряли в сугробах, она кричит: «Посмотрите вверх! Вверх!». — «Что ты хотела?», — спрашиваю я уже у машины. «Я хотела, чтобы они видели цифры на фасаде, когда построен наш дом», — отвечает она, гордая тем, что дом такой старый.
Я чувствую нежность по отношению к ней, или это только зависимость? Я бы хотела переехать к ней, кормить ее, готовить ей, помогать во всем. Она слаба и беспомощна, но при этом неплохо командует. «Тумас, моя обувь, — приказывает она, когда мы все же собрались ехать. — Джинсы. Каучук (резиновая штука, которую она носит между пальцев ног), на прикроватном столике, это очень важно».
Она требует, чтобы ее одели, хотя понятно, что ее разденут сразу же по приезде, в смотровой. Санитары скорой помощи ждут. «Подождут», — говорит она мне.
Я хочу просто держать ее за руку, поставить все остальное на паузу. После полуночи, когда маму осмотрел доктор и было решено перевести ее в отделение стационара, мы с Тумасом уходим. Всю дорогу от больницы до дома я спрашиваю его, правильно ли я поступила. Может, надо было остаться? Я знаю, возможно, мне пришлось бы сидеть там долгие часы, ожидая, когда ее перевезут в палату. Она лежит, во всяком случае, может вздремнуть. Все равно. Нельзя никого оставлять в приемном отделении.
Дома хаос. Гора нераспечатанной почты. Стираное белье, которое нужно разобрать. Я не успеваю ходить в магазин, посылать счета, чувствую себя беспомощной, опоздавшей везде. Не нахожу нужных бумаг. Вчера за столом мама вспоминала время, когда папа был при смерти. Как она навещала его перед работой, после работы и в обед. Ночевала там несколько ночей в неделю, чтобы делать ему обезболивающие уколы. Зачем ей это было нужно? Просто не было сомнения — должна. Она так воспитана. «Наш развод… — говорит она. — Мы любили друг друга, всегда». Когда она говорит о своей помощи папе, это звучит как подведение итогов. Самое важное из того, что она сделала; где по-настоящему что-то значила. Ей важно это показать. «Между нами всегда была любовь, — говорит она. — Другой любви я не знаю.» Я напоминаю ей катастрофические подробности его визитов к нам; как они ругались в большой комнате, пока он напивался, опорожняя принесенную с собой бутылку спиртного. Какая ужасная атмосфера царила в доме. «Разве? — говорит она. — Я не помню…»
21 декабря
Читаю папину политическую автобиографию, «Откровения Ц.». Глава о его политическом пробуждении в социалистической организации «Clarté» и «Молодом фронте» — организации студенческой, не связанной с партийной политикой, но радикальной и антифашистской, где будущие социал-демократы и левые встречались и, как видно, вели горячие дискуссии. Они приглашали разных гостей, к примеру, испанских добровольцев; они обсуждали кино и выставки, многие писатели и художники были если не в центре дискуссии, то, во всяком случае, приходили на эти встречи. Артур Лундквист, Карин Бойе и Стиг Дагерман. Папа учился в частной гимназии, общался, соответственно, с детьми «элиты» того времени — архитекторов, критиков; его семья была богатой, переехала из виллы в Ольстене в шестикомнатную квартиру на Норр-Мэларстранд. Думаю, папа чувствовал себя уверенно в своей среде. Он рассказывает о тридцать седьмом, о столкновениях с молодежными организациями нацистского толка, которые пытаются сорвать встречи Clarté и протестуют против зарубежных профессоров в высшей школе. Да и солидные представители истэблишмента пишут в газеты: «Каждый иностранный профессор занимает место шведского». Но папа пишет и о том, как Национальный музей не стал покупать «Гернику» Пикассо за смешную сумму в тридцать тысяч крон, как один датский «эксперт по искусству» под влиянием социалистического реализма пишет, что эта работа «не имеет политического значения».
Читать дальше