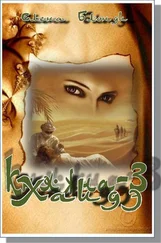— А я не поеду, — вдруг сказала Ленка маме, — еще чего, бабка эта. Скажешь, места нет. Все занято.
— Как не поедешь? — испугалась мама, — а институт?
Ленка пожала плечами. Мысль все больше нравилась ей.
— Подумаешь, институт, — начала она. Но мама перебила с надеждой в голосе:
— Ты решила в наш, да? В торговый, Лена, вот как хорошо, будешь дома, и ходить, ну ездить туда. А бабке скажем…
— Я работать пойду. Вот и деньги. Небольшие конечно, но все равно.
Мама трагически молчала и Ленка подвинулась, чтоб в свете ночника увидеть ее лицо. Вздохнула, подведя глаза, и отодвинулась снова.
— Как работать? А что скажут соседи, Лена? Ты умная, тебе нужно высшее.
— Успеется, — неумолимо ответила Ленка, — не убежит институт. Я поработаю год. В ателье, например. Ученицей. Потом мастером. Зря, что ли корочки получила на УПК. Ну и подготовлюсь, как следует. А еще, мам, ты извини, конечно, но я сейчас да, хочу себе пальто нормальное. Зимние сапоги, шапку и куртку. Мне носить нечего, пока вы тут со своими трагедиями.
— Как ты можешь, Лена, — беспомощно ответила Алла Дмитриевна, привычным жестом берясь за виски, — да как ты…
— Угу, — кивнула Ленка, — мам, кроме причитаний и слов, еще ж можно что-то делать. Я хочу делать. Или ты хочешь еще одного такого Жорика? Чтоб я тоже привезла?
— Боже упаси, — быстро сказала мама.
А в школе этой весной и правда, было странно. Казалось Ленке, не так, как в предыдущие годы, хотя тогда она была младше, могла чего-то не замечать. Но все же.
Будто все вокруг подернуто невидимой паутиной. Хотя продолжали звучать лозунги и мозолить глаза плакаты с белозубыми пионерами и комсомольцами, клеймился на политинформациях загнивающий капитализм, на уроках истории все так же рассказывали о самой мощной, самой могучей стране величиной в пятую часть мира. Но в самом ее нутре, состоящем из людей и мелких событий, не тех, что показывали в программе «Время» копились и уже ползли через край, не умещаясь, вялые, привычные признаки совершенно другого. Испитые алкаши, валяющиеся на газонах, на которых никто и внимания особенно не обращал. Пустые полки в магазинах и хмурые бесконечные очереди за мятой расквашенной перемороженной рыбой. Люди из поезда, с набитыми колбасой сумками — из самой Москвы, везли сутками, пожрать дома. И это вот кошмарно унизительное, от чего Ленку всякий раз передергивало до тряски в руках — ожерелья из рулонов туалетной бумаги на шеях добытчиков. Привычное, серое и невнятное из-за этой своей привычности, потому что другого никто и не видел, не с чем сравнить, в этот год, казалось, вспухает, как дрожжи, заполняя все вокруг, до тошноты не в желудке, а прямо в сердце. И нельзя сказать, что Ленка в свои только что семнадцать, обдумывала это, но — ощущала.
Потому не особо удивлялась, что физик на уроках бывает пьяненький, что физкультурницу Виолетту Даниловну перевели из другой школы, откуда уволили за чересчур вольное поведение с учителями-мужчинами (каких-таких мужчина она в школе нашла, думала иногда Ленка, глядя на массивную с каменными боками тетку, похожу на певицу Зыкину в спортивном костюме), и что даже интересные предметы становятся вялой жвачкой, которую учителя старались скорее высказать и уйти, на пороге забывая о тех, кто остался за партами.
Самым ярким и интересным было в школе другое. Новая классная Маргоша стала красить глаза и приходила в туфлях на высоком каблуке, а Санька Андросов пересел с парты за спиной Олеси — на первую, перед самым учительским столом.
То есть, снова любовь, с юмором поняла Ленка, глядя, как смотрит на широкие Санькины плечи Олеся — прикусив накрашенную губу и прищурив голубые глаза. А он смотрел на Маргариту. А та — на него.
И когда брели с Рыбкой обратно домой, в распахнутых легких курточках, таща тяжелые ноги в надоевших старых полусапожках, спросила подругу о том, о чем та упорно молчала уже месяц.
— Оль, а помнишь, мы говорили. Ты решила Гане дать. А не сказала. Ну?
Рыбка хмыкнула и пошла чуть быстрее, прижимая локтем сумку и резко отмахивая другой рукой. Ленка тоже прибавила шагу.
— Ну?
— Я что, кричать должна на каждом углу? Про себя.
— Нет. Но мне ж сказала бы. А молчишь. Оля, если не стала, так и молодец. Просто, я жду-жду. А ты молчишь. Совсем мы становимся чужие. Прям плохо.
Оля пожала плечами. Ветер подкрался и дернул подол синей юбки, метнул его над худыми коленками. Охлопав себя по бокам, Оля ответила:
— Так выросли, Малая. Смотри, я щас уеду. Ты останешься. Или тоже уедешь куда. Потом работа, замуж. Чего тут плохого? Жизнь.
Читать дальше