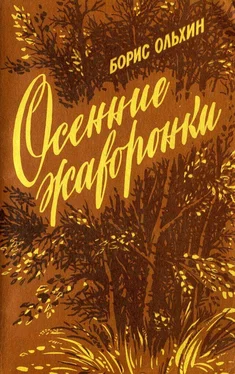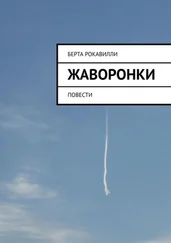— Только чур, уговор, — сказал он, — старостой не обзывать! Чтобы обращение было «товарищ старшина»! Всем ясно?
— Ясно, чего там… Один черт, старшина! Так точно, — загалдела наша команда.
— Тогда порядок… в танковых частях!
Так и пошла наша жизнь, весело и бесшабашно, нередко впроголодь, с занятиями в учебных классах, с легоньким и всерьез флиртом с девчатами, они занимали две комнаты наверху в том же общежитии, с хлопотами по быту, с вечерами под трофейный аккордеон, который привез с собой бывший танкист Ваганов.
Армейская дисциплина, которая установилась в общежитии, не только не досаждала нам, огольцам, но как-то оживляла нашу жизнь. И если уж кто начинал жить «не в ногу», фронтовики живо поправляли своевольника.
Наверху в коридоре были окно и дверь на летнюю терраску, сюда мы проходили покурить, побалагурить с девушками, и когда Ваганов приносил свой аккордеон, получалось что-то вроде посиделок или вечеринки.
В тот воскресный день наверху сошлись двое фронтовиков, Швецов и Николаев, двое девушек, да кое-кто мы, огольцы. Фронтовики посмеивались над Коротковым, парнишкой лет шестнадцати, будто он влюблен в Катюшу Никитину, плавно-медлительную красавицу с золотистой косой до пояса. «Никак затишье на сердечных позициях, а, Коротков? — говорил Швецов, перемигиваясь с Николаевым. — Гляди, пока топчешься на месте, перейдут дорожку-то!» — «Точно, перейдут, — поддержал его Николаев. — Уведут подружку. Вон Федотка и уведет, — кивнул он в мою сторону. — Как пить дать, уведет!»
Коротков, видный из себя парень, краснел и сконфуженно отмахивался. А Катюша, посмеиваясь, обняла меня и заглянула в глаза.
— Правда, Федот? Уведи?..
Я растерялся и сомлел. Я и впрямь был влюблен в Катюшу, верил, что и на самом деле покорю, «уведу» ее, и в мечтах рисовал себе, как спасаю любимую, вызволяю из беды при самых невероятных обстоятельствах.
Коротков окончательно смутился и ушел. А Катюша, сразу потускнев, спела частушку:
У канавы во дворе
Рякавичка брошена.
Отвяжись, худая жизнь,
Привяжись хорошая!..
И с этим отодвинула меня рукой, оттолкнула почти. Спохватилась, правда, попробовала снова обнять меня, но я не дался. Все мои мечты и надежды ахнули в прах, мир перевернулся вверх дном! И на меня что-то нашло такое, вроде припадка: оскорбленный до глубины души, я начал хохотать, задирать старших.
Наши фронтовики прикрикнули на меня, чтобы перестал, потом рассердились… Кто-то потряс меня за плечо. Ничто не действовало — свыше моих сил было заглушить в себе смех или хотя бы убежать. Тогда Швецов и Николаев прибегли к более действенному средству — взяли меня за руки, за ноги и вынесли на терраску. «Перестань, Федотко! Последнее предупреждение!» Да где там, хохот у меня не остановить бы, наверно, и под страхом смертной казни. И они раскачали меня и через перила швырнули вниз, целясь в сугроб; целились-то они в сугроб, но инвалиды же — промахнулись они мной, и я шлепнулся на твердь утоптанной дорожки. Боль обожгла бок, плечо. Я перекатился на спину, на бок, но подняться сразу не мог. Они там наверху забеспокоились, видно, — ну как убился мальчишка?.. И позвали: «Вставай. Федот! Ну?.. Мы же не всерьез. А, Федот?..»
Превозмогая боль, я встал. Сверху они крикнули мне что-то ободряющее, я не расслышал. Я помалу приходил в себя. Им, конечно, и невдомек, что мне было легче перенести это падение и потому еще, что думалось, будто я пострадал за нее, за Катюшу… Встрепанный и разбитый, я нашел силы, чтобы помахать фронтовикам рукой, и засмеялся опять как ни в чем не бывало, так что они там изумились. А я с этим будто бы прежним хохотом пошел в комнату общежития; полежать мне после падения все-таки надо было.
* * *
С первых дней учебы я ближе других сошелся с Ленькой Баландиным. Ленька был из невезучих, с ним вечно случались всякие нелепости. Про таких говорят: «Где сто человек пройдут не споткнутся, он ногу сломает». Вот один какой забавный случай с ним запомнился мне. Как-то ночью разбудил он меня, шепчет: «Федотк, слушь, у меня брюхо пучит! Во! Как ты думаешь, не лопнет?» Я хоть и проснулся, но сразу не поверил в явь происходящего, подумалось — во сне это, не иначе. Но Ленька толкал меня под бок — кровати наши вплотную рядом стояли, — тянул за руку и все шептал: «Во, пощупай. Это же с ума сойти! Может, иголкой попробовать проткнуть? Я уж и набок поворотиться не могу…»
Я откинул одеяло и, вздрагивая от ночного холода, приподнялся, пощупал у него живот — его действительно раздуло, как тугой барабан. Мне жутковато сделалось: вдруг вот сейчас лопнет у Леньки пузо, и поминай как звали парня! «Ты чего ел?» — спрашиваю. «Вот, — говорит, — Коротков мне ячневой крупы маленько уделил. Я сварил, да сала кусочек в кашу положил…» «Надо бы в больницу бежать», — мелькнула у меня мысль. Но не успею же, подумалось в отчаянии. Разбудить Зарайского, других?.. Переполох подымется, и Леньке стыдоба же с этим пузом, засмеют потом. Что же придумать, что бы предпринять?.. И тут меня осенило. Наряду с растениеводством, почвоведением, сельхозэкономикой мы проходили основы животноводства, и как раз незадолго перед тем преподавательница рассказывала, что у коров, объевшихся зеленого клевера, может произойти вздутие живота, и в этих случаях им надо давать древесный уголь… Мне подумалось, что рецепт может сгодиться в данном случае. Велел Леньке лежать тихо, а сам к печке, выгреб несколько угольков — и назад к нему: «На, ешь». Он покорно сжевал один уголек, другой… Я лег на свою кровать, укутался и слушал одним ухом, что Ленька. Беспокойство грызло: вдруг еще хуже станет от этих углей? А Ленька вроде ничего: он то ворочался, вздыхал-кряхтел, то пшикал, как проколотая велосипедная шина. Вот, слышно, пожевал еще уголька, повернулся: «Знаешь, Федотк… вроде проходит. Вроде легче». «Ну и ладно. А то выдумал — пузо лопнет!» — проворчал я.
Читать дальше