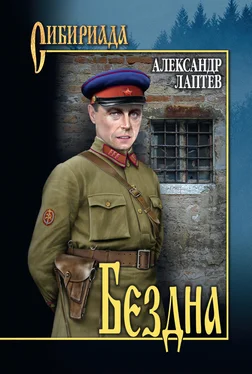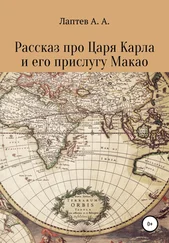Басов тоже поднялся. Слова давались ему с трудом, усилием воли он унял волнение, подавил слабость.
– Но я ничего такого не знаю! – произнёс твёрдо. – Если даже что-то и было, мне-то откуда об этом знать? Я ведь не могу заглянуть ему в душу.
– А надо бы! – сверкнул глазами Рождественский. – Вы там сидите в своём доме и ни черта не видите вокруг. Контрреволюция поднимает голову! Троцкисты и недобитые белогвардейцы готовят вооружённое восстание. А вы там у себя благодушествуете. Но так теперь нельзя. Не то время! – Он подумал секунду, потом взял со стола листы и протянул Басову. – Заберите. Завтра в это же время я жду от вас новую характеристику. И пожалуйста, без сантиментов. Вы должны проявить революционную бдительность. Я на вас очень рассчитываю.
Басов взял листы, помедлил.
– Но я не знаю, что мне писать!
Следователь вскинулся.
– Вот как? Вы писатель – и не знаете, что вам следует писать? Вы не чувствуете никакой ответственности за судьбу страны, давшей вам всё?
– Я чувствую свою ответственность, и я стараюсь… по мере сил… – неуверенно заговорил Басов. – Но я не знаю ничего такого, о чём вы сейчас сказали! Пётр Поликарпович – мой давний знакомый, мы дружим семьями, на рыбалке вместе бываем.
– Так-так, – подхватил следователь, – и о чём же вы там беседуете? Быть может, гражданин Пеплов делился с вами своими мыслями о политическом моменте?
Басов отстранился.
– Да вы что! Мы о литературе обычно говорили, о наших писательских делах. Политику мы никогда не обсуждали. Зачем нам это?
– Так уж и не обсуждали, – скривился следователь и вдруг заключил, как отрезал: – Ну ничего, скоро мы всё это выясним. – Глянул в глаза Басову и произнёс со значением: – Вы свободны, гражданин Басов. Пока свободны! Идите.
Басов неловко повернулся и пошёл прочь. Вышел в коридор, спустился по ступенькам, ещё один проход – и наконец оказался на улице. Шёл в каком-то оглушённом состоянии, ничего не видя вокруг. На душе была страшная тяжесть, предчувствие чего-то ужасного. Петра было уже не спасти, это совершенно ясно. Басов узнал недавно от московских знакомых, что в столице арестован Володя Зазубрин, его давний друг, замечательный писатель – человек, лично знавший Дзержинского и пользовавшийся его доверием. Но это значило лишь одно: взять теперь могут любого и в любую секунду. Вот прямо сейчас подойдут среди улицы и возьмут под белы руки! Михаил Михайлович осторожно огляделся. Захотелось вдруг побежать сломя голову, куда-нибудь спрятаться. Раствориться без остатка, исчезнуть из этого мира! Но он знал, что никуда не побежит, примет всё, как оно есть. Дома его ждали жена и две дочери. Были ещё живы родители жены и множество родственников с обеих сторон – в Иркутске, Красноярске, Тобольске, Новосибирске. Даже если их не тронут – что они будут о нём думать? Как будут расти без него дети? Нет, бежать нельзя. Но и лгать он тоже не станет. Нужно говорить одну лишь правду, не качаться и не поддаваться на угрозы и уговоры следователей. И тогда, быть может, всё и обойдётся. А если не обойдётся, что ж, тогда он погибнет. Но он умрёт честным человеком. В девятнадцатом году, когда он перешёл от Колчака на сторону красных, он уже сделал этот выбор – между жизнью и смертью, между честью и позором. А что ж теперь? Гражданская война давно закончилась, Колчака спустили под лёд студёной Ангары. Белочехи убрались восвояси, белогвардейцев и семёновцев разметали по белу свету (а большей частью пустили в расход). Отчего же снова так тревожно бьётся сердце? Откуда этот липкий страх, парализующий волю?
Ничего не видя перед собой, Михаил Михайлович брёл по залитой весенним солнцем улице. Над головой широко раскинулось синее небо, птицы весело щебетали, перелетая с ветки на ветку, ветерок приносил с юга тепло и пряные запахи… – всё это было уже не для него. Жизнь, похоже, катилась к закату. Несколько рановато! Михаилу Михайловичу шёл на тот момент тридцать девятый год.
Предчувствия его не обманули: через три дня Михаил Михайлович Басов был арестован. Его взяли прямо из рабочего кабинета. Посадили в чёрную эмку и увезли. Это случилось днём. А ночью взяли Гольдберга и поэта Балина (обоих – из дома). Все трое были доставлены во внутреннюю тюрьму областного НКВД на улицу Литвинова. Их поместили в разные камеры (чтоб не сговорились), и почти сразу стали допрашивать с особым пристрастием, почти с экстазом (выполняя таким образом наказ товарища Фриновского). Обвинения были стандартные: участие в правотроцкистской организации, вредительство, террор, а ещё – шпионаж в пользу Японии и фашистской Германии (до пакта Риббентропа – Молотова было ещё далеко), а кроме этого – участие в эсеровском заговоре. Любого из этих обвинений было достаточно для расстрела (что и случилось в самом недалёком будущем: не выдержав пыток и поверив лживым посулам следователей, Басов, Гольдберг и Балин признали себя виновными во всём, что им инкриминировали; и все трое упокоились в гигантских рвах-накопителях на «Даче лунного короля»). Таких вот «дач», «урочищ», «полигонов» и «местечек» – были сотни по всей стране! Сотни тысяч советских граждан должны были заполнить своими телами эти чудовищные могильники. Зачем всё это делалось? Ради какой великой цели? Никто тогда этого не знал. Не знает и теперь. Потому что на этот вопрос невозможно дать ответ и ещё потому, что нет в мире такой цели и такого идеала, ради которых нужно массово уничтожать людей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу