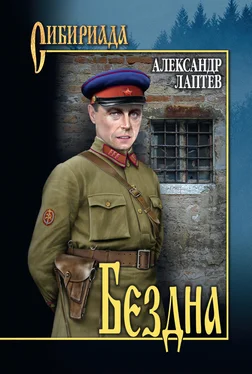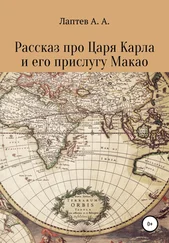Думая обо всём этом, чувствуя подступающее к сердцу отчаяние, Пётр Поликарпович изо всей силы бил кайлом в мёрзлую стену. Стоять просто так было нельзя, да он бы и замёрз, если б не работал. И он поднимал и опускал железный снаряд, высекая искры из камня, отворачиваясь от летящих в лицо осколков. Вагонетка наполнялась очень медленно, до обеда с трудом удавалось наполнить одну, и ещё одну – до конца рабочего дня. Это и была половинная норма – пять кубов за смену. А целая норма – в десять кубов – казалась фантастической. Но кто-то же совершал и этот подвиг, получая усиленный паёк! Кому-то же давали премиальное блюдо в лагерной столовой! Пётр Поликарпович давно понял, что никакие блюда и никакие усиленные пайки не восполнят силы после такого вот труда. Вручную нарубить в скале десять кубометров камня, потом съесть полтора килограмма хлеба, пару мисок баланды и лечь на голые нары в холодном бараке, проспать сном животного шесть или семь часов – и снова идти в ледяной забой, так несколько месяцев подряд, – всё это находилось за пределами человеческих сил. Однако деваться было некуда – надо было работать или же умереть сразу. Отказчиков расстреливали – на всех приисках, во всех лагерях вполне официально убивали заключённых за три отказа от работы, на то был специальный указ. Расстреливали даже и за невыполненную норму, приравнивая это к саботажу. Впрочем, заключённый, получавший штрафной паёк, всё равно был обречён на смерть. Вокруг каждого колымского лагеря были безымянные кладбища – без крестов, без каких ни то знаков. В тридцать седьмом году хоронили поодиночке, а уже начиная со следующего года – только скопом, только в братских могилах – по несколько десятков или даже сотен скрюченных тел зараз. Потому что каждому заключённому рыть могилу не было никакой возможности. Да и гораздо удобнее это – свалил всех в кучу, завалил камнями – и нет ничего! Ни памятного знака, ни единой фамилии. Словно и не было на свете всех этих людей, не рожали их матери, не мечтали все они о счастье, не строили планов на будущее.
Пётр Поликарпович понимал, что из этого лагеря живым его не выпустят. Если бы он протянул хотя бы год, тогда ещё была б надежда на перевод в другой лагерь. Но целый год он здесь не выдержит. До лета ещё можно как-нибудь дотянуть. А что потом? Снова пятидесятиградусные морозы и убийственный труд? Сердце уже сейчас работает с перебоями, и все суставы болят так, что невмочь. Нет, целый год он не сдюжит. Оставалось лишь одно – бежать из этого лагеря. Надо только дождаться тепла. Ну и составить какой-нибудь план. Самое простое – сплавиться по реке. До Охотского моря километров двести. Можно за трое суток доплыть. А что там будет дальше, Пётр Поликарпович не загадывал. Казалось: только бы добраться до берега, увидеть море, и всё сразу же образуется. Без этой веры он не смог бы дальше жить. Просыпаясь утром в насквозь промороженном бараке, он думал лишь о том, как наступит тепло и как он поплывёт по реке на плоту мимо высоких гор – всё дальше и дальше, прочь от лагерных вышек, от уродливых бетонных блоков, от грохота дробильных машин – к свету и теплу, к вольной жизни на берегу необъятного океана, за которым скрываются тёплые страны и добрые люди. В глубине души он понимал, что всё это утопия, несбыточные мечты. Но красочные видения упрямо вставали перед глазами, он никак не мог их прогнать. Ступая по скрипучему снегу под холодным светом неподвижных звёзд, чувствуя обжигающий холод на шее и на щеках, он видел внутренним взором синее море и жёлтый песок, ступал по этому песку босыми ступнями, чувствовал тёплую набегающую волну, слышал крики чаек, рассекающих воздух.
И лицо его расслаблялось в блаженной улыбке, так что товарищи косились на него, потом переглядывались и кивали друг другу с понимающим видом. Им казалось, что этот нелепый старик потихоньку сходит с ума. Они так и ждали, что он выкинет какую-нибудь штуку: бросится с кручи вниз, или запустит кайлом в охранника, или вдруг зальётся идиотским смехом, так что придётся его бить, пока не издохнет. Но Пётр Поликарпович лишь тихо улыбался и ничего такого не вытворял. Все так и решили, что помешательство его безобидное. Интерес к нему постепенно угас.
Только бригадир всё присматривался, всё хмурился, глядя на Петра Поликарповича. Этот заключённый не нравился ему. Он сразу почуял в нём чужака. Этот внимательный взгляд, тихая речь, повадки интеллигента – всё было чужое и чем-то очень неприятное. «Иван-иванычей» в лагерях не любили. Как-то ещё терпели работяг, подтрунивали над деревенской простотой, в открытую смеялись над попами, но вот интеллигенты здесь были на особом счету. Им мстили за все унижения, подлинные и мнимые, которые эти умники чинили простым советским людям на воле. Там они командовали и ухмылялись, важничали и чванились; здесь же им пришлось хлебнуть всего того, что с рождения хлебали «простые советские люди» без высшего образования – пахари и работяги, слесари и лудильщики. Всю свою злобу, все обиды и все унижения возвращались к интеллигентам сторицей. И это казалось всем правильным и справедливым. Не надо было гордиться на воле, не пришлось бы теперь раскаиваться и плакать горючими слезами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу