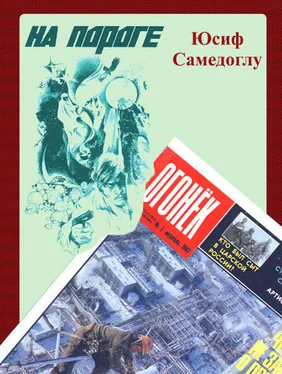Раз или два в месяц Мустафа-киши спускался с гор и приезжал к ним в город на день-два. Он переступал порог их плоскокрышего одноэтажного домика — через плечо хурджин с кистями, полный всяких вкусностей и небылиц — и говорил: «С гор иду я, дети!» Потом он ставил хурджин в угол прихожей и оделял исхудавших в военное лихолетье, большеглазых детей ломтями тендирского чурека, толченым жареным горохом с кишмишем и рассказывал сказки.
Тогда, проснувшись в полдень, он тотчас позабыл свой сон, он понял сейчас, почему. Его ждал накрытый стол с самыми изысканными яствами — его обычный завтрак — и желудочный сок, взыграв в голодном желудке, как молодое вино, стер из памяти все остальное.
…Эх, вернуть бы то время, когда Мустафа-киши приезжал к ним с гор и привозил полный хурджин гостинцев и сказок, когда, прижавшись друг к дружке в постели, постланной прямо на полу, они, два брата и сестра, досыта поевшие в этот день, с упоительным вкусом толченой жареной пшеницы с кишмишем на губах, слушали, нет, не слушали, а прямо-таки впивали, как пьют сладчайший шербет, дядины страшные сказки, вернуть бы то время и вместе с матерью помолиться усердно, чтобы бог услышал и остановил время, продлил бы двухдневное счастье дядиных приездов на всю оставшуюся жизнь. Зачем он вырос? Зачем выжил в те голодные годы? Почему не ушел с дядей Мустафой в горы и не затерялся там, не сгинул в снегах и метелях? Зачем кончилась сиротская жизнь? Только тогда он и был по-настоящему счастлив. Но где уж — дню за днем не угнаться, хоть пришей их один к одному!..
Как говорится, играй, что умеешь, посмотрим, как рок переиграет. Так говорили и мать, и дядя Мустафа.
Когда на отца пришла похоронка, мать не вскрикнула, не взвыла, не заплакала, она опустилась на табурет в прихожей и сказала с сухими глазами: «Играй, что умеешь, посмотрим, как рок переиграет». А потом эти слова, как сговорившись, повторял каждый, кто заходил к ним на траур, и день этот запомнился ему не плачем и причитаньями, а вот этим присловьем. Играй, что умеешь, посмотрим, как рок переиграет. В ту ночь он увидел в окне какое-то странное мерцание, потом на пороге появился Рок, он был во всем белом и, прижимая к груди саз, играл печальную до неудержимых слез мелодию.
И это только он сейчас вспомнил. И это он не забыл. Как все.
Да что же это за боль такая, что за мука, господи?!. Из-за нее, из-за этой нестерпимой боли и солнце кажется таким кровавым, даже расщелины скал заполнены, как разбавленной кровью, красноватым светом, весь мир в кроваво-красном огне, о господи! Ему вдруг почудилось, что он сидит на вулкане, который, быть может, проснулся и сейчас зальет его расплавленной лавой… Вместе с лавой он извергнет все забытые, зарытые в землю воспоминания… Потому, что неспроста же солнце горит таким кроваво-красным цветом, у каждого человека свое солнце, и горе тому дню, когда солнце его дымится такой кровью. Горе тому дню…
«Ты считай, а рок по-своему рассчитает…»
«У бешеных денег худой конец, угомонись».
«С гор иду я, дети!»
«Взяли! Керимова взяли!..»
Скалы пылали в кроваво-красном закатном огне. Кто придумал это гиблое место, какая нечистая сила надоумила его искать здесь спасения, да тут ведь самое место, чтобы с ума свихнуться, проклятье, проклятые гобустанские скалы… Треклятые скалы…
Гладкая, почти отполированная поверхность скалы треснула как раз посередине — и он вспомнил, как они шумной компанией приезжали сюда последний раз. Они с Керимовым заказали в «Интуристе» роскошный ужин для приезжего гостя, очень нужного человека, их почтил своим присутствием один из высокопоставленных друзей — словом, все было организовано по самому высокому разряду, а после обильных возлияний в полночь, то ли расставаться не хотелось, то ли еще что, но решили проветриться, покуражиться, съездить в гобустанские скалы. В ночном небе так же, как вчера, светили щедро рассыпанные звезды, и так же, как вчера, серебряным поясом мерцала дорога, бегущая на юг республики.
Гость наезжал раз или два в год и оставался дней на пятнадцать — двадцать, жил в забронированном для него номере люкс лучшей гостиницы, пил-гулял, попутно дела проворачивал нешуточные, но в Гобустан они его еще не возили и вот решили экспромтом съездить, показать гостю при свете звезд наскальные рисунки. Долго ли? Расселись по машинам и покатили. И женщин, как водится, прихватили, без них и гульба не гульба, высокую, статную, многоопытную Наргиз с полными чувственными губами и совсем юную девушку лет семнадцати-восемнадцати, не более, черноглазую, чернобровую, поминутно терявшуюся и красневшую… как звали ее, дай бог памяти… пришла она, кажется, с известным таристом, который принес с собой старинный музыкальный инструмент уд и обещал поиграть на нем, для дорогого гостя, разумеется… Что касается Наргиз, то ее тоже, заранее обговорив и расплатившись, пригласили для гостя. Вообще-то Наргиз была человеком Керимова, то есть роман их давно отшумел, а теперь она служила чем-то вроде дорогого подношения, шикарной вещицы с особым прейскурантом — для избранных, конечно, для самых дорогих гостей. В ту незабвенную ночь все было для гостя: и длинные, цветистые тосты, и самые вкусные — на ребрышках — куски шашлыка, и французский коньяк, и предусмотрительно прихваченные из дому маринованные баклажаны и перцы, и «блатные» песни, до которых гость, уроженец Одессы, был охотник и которые лихо (за десятку, а то и за четвертной) исполнял ресторанный оркестр, и золотые швейцарские часы, которые Керимов в порыве беззаветной дружбы, под звон бокалов снял со своей руки и надел на руку гостя, блоки американских сигарет, и наконец, — разодетая и раздушенная Наргиз, умевшая, как никто, сбить с пути любого мужчину. Если б можно было, ее бы тоже усадили в фарфоровое блюдо или хрустальную вазу и подали на стол гостю, только бы ублажить его и доказать ему свою верность.
Читать дальше