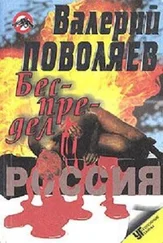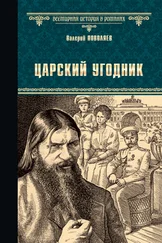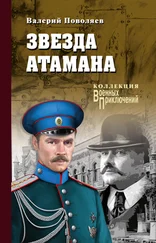Было тихо, было так тихо, что Савченко перестал слышать дыхание девочек. Савченко ждал. Сердце чуть утихомирилось, отпустило, уползло вниз, на свое место – собственно, так оно и должно быть, – воздуха, которого не хватало, стало больше.
Савченко не шевелился. Из ватной тиши что-то проступило – послышался слабый далекий голос, образовалась порина, этакое малое отверстие, затем возникла еще одна порина и вата потекла, Савченко стал слышать то, чего не слышал раньше. Снова помял пальцами шею, разгоняя кровь – жиденькой становится она в скользкие минуты, будто не кровь это, а водица из-под крана. Не годится это для военного человека.
Все-таки, что за зверь спрятался в платяном шкафу? Савченко уперся носками сапог в пол, надавил, проверяя доски на прочность, – доски скрипнули под нажимом жалобно.
«Не-ет, тут все-таки есть нечистая сила, она и не только она» – Савченко подул на кулак, словно бы остужая его – неинтеллигентный жест, употребляемый его разведчиками на тренировках, когда отрабатывали захваты. За дверью раздались быстрые шаги – возвращалась Фрося, – Савченко напрягся, не зная, проверить шкаф до ее возвращения или нет, но было уже поздно – дверь шкафа решительно распахнулась.
Еще бы миг – и Савченко нанес бы удар прямо по шкафу, хлестанул бы кулаком, добавил ногой – и явно бы справился с нечистой силой, но успел остановить себя, вздохнул тяжело, хрипло. Из шкафа выкинул свое легкое укороченное тело изувеченный лохматый мужик. Ног у него не было, вместо ног тело завершала аккуратная деревянная тележка с четырьмя шарикоподшипниками.
Мужик хмуро прострелил снизу Савченко, сощурил глаза на слабом электрическом свету.
– Ты меня, майор, не бойся, – произнес он тягуче, – я свой!
– Ты кто?
– Фроськин муж.
– Муж? – Савченко привстал на стуле.
– Сиди! – грубо сказал ему Фроськин муж. – Не вскакивай! И меня, главное, не бойся. Я не помешаю!
Савченко хотел что-то сказать, но не сумел, язык у него одеревенел во рту, стал чужим, неподъемным, пухлым, словно бы отлитым из микропорки, дышать сразу сделалось трудно.
– Ты извини меня, майор, что не досидел, не выдержал. Емкости подвели – переполнился по пробку, опорожняться надо. Еще раз извини, майор.
– Чего там… – выдавил из себя Савченко, – чего там…
Более глупого выдавить из себя он ничего не мог. Но и в более глупое положение он никогда не попадал.
– И-и-э-э! – неожиданно услышал он возглас, стремительно обернулся: на пороге комнатенки стояла Фрося с хлебом в руках.
Инвалид виновато опустил голову.
– Извини меня, Фрось, не выдержал, – голос у инвалида дрогнул, он уперся руками в пол и задвинул тележку назад, в шкаф, рот его горько пополз в сторону, раздвоился, но в следующую секунду инвалид взял себя в руки, твердо сжал губы. – Извини еще раз, всю обедню тебе испортил.
– Да какая там обедня! – тихо произнесла Фрося. – А дочек на что кормить будем? Где денег возьмем? А продукты? Продукты где возьмем? Ты, что ли, родишь?
Инвалид, опустив голову, молчал. Пальцы, которыми он упирался в пол, сделались синеватыми, костяшки морозно побелели – от этих сильных, умелых, но сейчас казавшихся такими ненужными рук отлила кровь, голова инвалида побито дернулась. Инвалид, похоже, уже перемог самого себя и забыл, зачем вылезал из шкафа.
Фрося прошла к столу, аккуратно положила на него хлеб, – под руку машинально подставила ладонь, чтобы случайно не просыпалась пара крошек, здесь все шло в котел, даже отходы, села на старенький венский стул с изящно выгнутой спинкой.
И такая обреченность, такое горе проступило во всей ее фигуре, что Савченко захотелось вжаться в стол, в пол, в стену, исчезнуть, испариться из этой утлой комнатенки навсегда, но ничего этого он не мог сделать – только сгорбился, уносясь вновь в глубокую душевную пропасть: с одной стороны Фрося, с другой стороны инвалид…
Наступила пауза – затяжная, муторная и тоскливая, такая тоскливая, что хоть стреляйся. Инвалид обозначил себя первым, приподнялся в шкафу на руках, громыхнул тележкой, проговорил громко, резко:
– Ничего еще не потеряно, Фрось. А? Товарищ майор, еще ведь ничего не потеряно, а? Я не буду вам мешать… А? – голос у него был вороньим; резкое, почти гортанное, с каким-то дополнительным звуком, рождающимся в сильной глотке инвалида, «А» походило на карканье. Только карканье это было жалкое, без настырных требовательных ноток, которым обычно бывает наделено карканье настоящих ворон. – Я сейчас уйду, я не буду мешать вам… А? Ну простите, пожалуйста, меня!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу