Такая война странная.
Хотите, можете войной это не называть, мне всё равно.
* * *
Из России позвонил товарищ, музыкант: «Захар, короче, это… я приеду?»
Слово «короче» произносят, чтоб сделать фразу длиннее.
— Да, Дима, конечно, мы тебя очень ждём.
Этот парень, взявший сценический псевдоним в честь голубоглазой собаки, последний год кочевал с обложки на обложку глянцевых журналов. Он совершил невозможное — принудил недосягаемый гламурный мир принять себя, не взирая на то, что в каждом третьем интервью говорил: «…хочу всё бросить и уехать в батальон к Захару».
Его звали Хаски.
В журналах кривились, вздыхали, — но это всё лишь добавляло шарма к его образу: бурятский сыр с гнильцой; он был из Бурятии, мать у него была русская, бабушка бурятская, отец армянский — какой-то букет там сложился, — мне вообще везёт на таких товарищей; когда Хаски уже приехал, пошли в баню, сидим в парилке: Араб, Граф, Тайсон, Злой, Хаски, — заговорили про русское, про своё, про родное, — я их оглядел и захохотал: вот же нерусь, поналезли к нам в русский мир.
— Да, да, да, мы поналезли, — Хаски в своей манере кивал, что-то в этом было от движений красивого животного, кивающего при ходьбе головой: лошадь, только маленькая и хищная — бывают такие? Нет? Пусть будет кусачий жеребёнок.
Я знал его лет, скажем, семь, восемь, девять — давно; знал его, когда он не дал ещё ни одного концерта, — а теперь давал сто пятьдесят в год.
А тогда он прислал мне свои песни, рэп, сразу весь первый альбом, который слышало кроме меня десять человек, или тысяча, — я не знаю сколько; но по нынешним меркам — его никто не знал: ни один журнал о нём не писал, ни один музыкальный критик не направлял на него лорнет, а на сетевую группу о нём было подписано тридцать человек.
Я послушал и говорю: приезжай ко мне в гости, попозже ты будешь гений.
Тогда ещё не было никакой войны, тогда ещё был мир.
Он только явился из Улан-Удэ в столицу, только начал учиться в высшем учебном. Он очень любил своё Улан-Удэ, но рассказывал: мне было пятнадцать, и я понял, что умру здесь, если не сдвинусь с места; и вот, законченный троечник, оторви и выбрось, — за год натаскал себя на ЕГЭ, и получил все положенные баллы, и поступил в МГУ.
В Москве Дима нашёл отца, которого никогда не видел, но если ты не видел отца двадцать лет, то никакая химия не срабатывает: все нейроны, электроны, синхрофазотроны отмирают и осыпаются, электричество не проходит: раскрываешь рот, говоришь «Папа», — а вместо волшебного слова — яичная скорлупа: внутри никто не живёт, птенец убежал, не подышишь на его жёлтую пшеничную спинку, не отразишься в мизерном испуганном глазке.
Дима устроился в подпольную фирму, где сочинял аннотации для порнофильмов: о, эта работа, она сложна и опасна; я бы ещё подумал, прежде чем браться за такое.
Оказывается, у порнофильмов есть краткое содержание, и с ним, боги мои боги, знакомятся заинтересованные люди: «Так, о чём тут?.. Университетская вечеринка… Ага… Нет, банально, плоско, скучно… А это про что?»
Димка записал ещё один альбом, который снова никому не был нужен, как и первый, но если в первом были две поразительные песни, то во втором все оказались обескураживающе хороши.
Мир юных — мир насекомых: они, привставая на задние лапки, пошевеливая усиками, слышат одним им понятные шевеления воздуха, мельчайшие дуновения, беззвучное электрическое потрескивание; когда Хаски сделал третий альбом, они тут же его опознали, поползли к нему всеми своими бесчисленными насекомыми лапками, вращая усиками, глядя неморгающими глазами кузнечиков: к своему верховному кузнецу.
С юности я знал добрую сотню музыкантов, пил с ними, подпевал им, радовался им — но здесь сложился единственный случай, когда вертикальный взлёт вверх случился у меня на глазах.
Чувствовалась таинственная тень чуда, его касание: в огромной России читали рэп сотни подростков, там была конкуренция как в муравейнике, — одного муравья было не отличить от другого, все шли друг за другом одной муравьиной тропкой, только, в отличие от муравьёв, соревнуясь в том или ином уродстве, которое культивировали в себе: голос должен быть такой, словно тебя во младенчестве поместили в глиняный сосуд, и ты говорил только внутрь сосуда, или словно у тебя вы́резали гланды, а пришили гирлянды, или словно ты носитель словаря, где нет шипящих и свистящих, или, напротив, свистят и шипят все буквы, даже гласные.
Как среди сонма неотличимых возможно стать заметным, первым, воспарившим посреди этого картавого паноптикума, этой выставки живорождённых мутантов, объясняющихся взмахами пятипалых, сросшихся перепонками конечностей?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
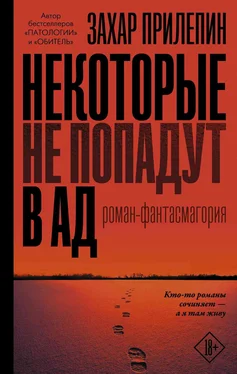
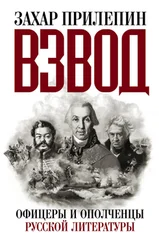






![Захар Прилепин - Всё, что должно разрешиться. Хроника почти бесконечной войны - 2013-2021 [litres]](/books/430624/zahar-prilepin-vse-chto-dolzhno-razreshitsya-hronika-pochti-beskonechnoj-vojny-2013-2021-litres-thumb.webp)



