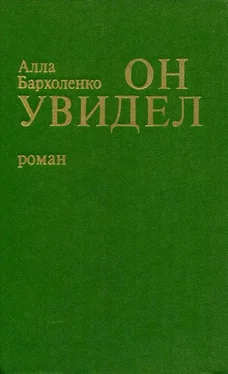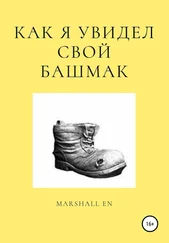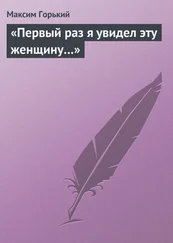Слова вылетали из Саньки без остановки, похоже, она и не дышала вовсе, некогда было, но в вагоне, где они оказались в купе только вдвоем, Санька как бы споткнулась, внезапно умолкла, забралась на верхнюю полку и ее будто не стало.
Григорьев, вначале испугавшийся ее болтовни и только кивавший на все ее заходы, постепенно стал привыкать к ее бесшумному присутствию где-то наверху, а через несколько часов дороги выскочил на какой-то станции и купил у чистенькой старушки малосольных огурцов и горячей, облепленной тонкими лапками укропа картошки. Санька картошку с огурчиком приняла, виновато сказала «Спасибо!» и опять надолго пропала.
Григорьев сидел у окна, был доволен тишиной, одиночеством и тем, что сутки и даже больше может не делать ничего обязательного, что над ним на столько часов вперед ничто не висит.
Он бездумно посматривал в заоконную жизнь, которая была прекрасна тем, что его не касалась. То есть если долго в нее всматриваться, то причастный станешь непременно — в тебя войдет доверчивый взгляд молоденькой девчонки, провожающей парня, который уже сейчас зыркает по сторонам, — не вернется, девочка, обманет, зря ты так на него смотришь; беспомощно оглядывается старушка с десятком узлов — никто не встретил, да и кому нужна ты, старая? если и не выгонят тебя, так сама уйдешь, чтобы где-нибудь в сторонке помереть от обиды; похмельный дядька у ларька вопрошает сразу весь поезд: едешь? а куда едешь? и зачем? — ответь ему, попробуй. Лица читались легко, как детские книжки, незакрытость их и беззащитность связывала Григорьева, налагала ненужную ответственность, но поезд уносил его дальше, и Григорьев облегченно вздыхал. Он был свободен намного вперед, до следующего полустанка, до следующего взгляда, до следующего биения сердца.
Он, конечно, был странный человек: легко доверял и не стремился оказаться на виду, легко уступал, всегда, конечно, в ущерб себе, но сожалеть об этом не сожалел. Он считал, что раз уступает добровольно, то некоторое утеснение его интересов подразумевается само собой, и если кому-то из знакомых явилась в нем надобность, то, значит, у знакомого так сложились обстоятельства, и знакомому, конечно, нужнее, чем ему, отпуск в августе, билет на воскресный концерт, место у окна в рабочем кабинете или, например, новая квартира. У него из-под носа брали нужную ему книгу, перед прилавком выталкивали из очереди, хотя он всегда добросовестно отстаивал от самого хвоста, но делал это слишком незаметно, и никто на него не обращал внимания, пока не обострялась борьба за «жизнь» и не вспыхивала агрессивная настороженность ко всем посторонним, «незаконно» покушающимся на дефицит, а пока на Григорьева обрушивалось разрушительное негодование очереди, другие, обладавшие прямо противоположной способностью становиться незаметными в переломные моменты, беспрепятственно хапали у очереди из-под носа. Григорьев считал подобные происшествия случайными — ну, бывает. Его безбожно обсчитывали, а он, прекрасно все видя, стеснялся внести поправку, боясь поставить в неловкое положение невольно ошибшегося человека. При этом казалось само собой разумеющимся, что и с ним должны поступать столь же деликатно и должны когда-нибудь уступить, если у Григорьева явится в том необходимость. Необходимость несколько раз являлась, но ее почему-то совершенно не заметили. Нет, нет, совсем не поступили преднамеренно зло, а просто вот не заметили. Несколько обескураженный Григорьев и тут легко нашел всему оправдание. Да и кто, в самом деле, обязан замечать всякие его переживания, у него и лицо такое — однообразное, ничего на нем не видно, ну, подумаешь — потребовался ему внезапный отпуск за свой счет, захандрилось ему и захотелось смотаться к другу на Диксон, и правильно, что никакого отпуска не дали: у него настроения, а тут производство. Или потребовалось ему на неделю сто рублей — соседу завтра машину выкупать, свои Григорьев все отдал, а сотни все равно недостает, обегал всех коллег, изумляются: откуда? А и в самом деле, откуда у людей сотня в тот момент, когда Григорьеву взбрело эту сотню попросить? Не проси, милый, свое имей. А то вздумал Григорьев заболеть, ну и болей себе, для посещений общественный сектор имеется, а если Григорьев сам и есть этот сектор, так тут никто не виноват, совпадение. И вообще у людей и без него забот хватает, а со своими проблемами он и сам может управиться — ну, продал книги, которые очень не хотел продавать, ну, поскучал в одиночестве, ну, поговорить не с кем — другим-то до этого что? Или: стенгазету оформлять — один Григорьев, портреты после демонстрации нести — Григорьев, на субботник — Григорьев, в колхоз на уборочную — он же, он бессемейный, а остальные обременены. Но обременены-то — добровольно, и бессемейный он — тоже по каким-то причинам…
Читать дальше