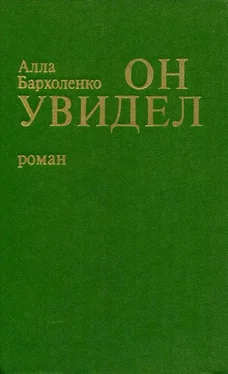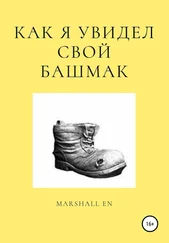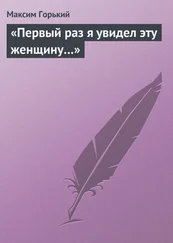Эта баня, эти вызывающие косы, эти старцы в брезентовых фартуках, с кожаными ремешками, удерживающими ничуть не поредевшие шевелюры, и даже песни хозяйки, которых лет пятьдесят никто не поет, — весь этот допотопный антураж, без смущения уживающийся с телевизорами в каждой комнате (здесь о вкусах не спорили в течение целой жизни, а из аванса разрешали в складчину творческое разногласие в городской комиссионке или задаром подбирали на помойках кучу хлама, который через неделю-другую преображался в функционирующие системы), эти микрокалькуляторы и дистанционное управление культиваторами и кухонной плитой, кондиционеры в кузне и мастерских, и даже непривычная, явно потомственная трезвость, и еще, и еще, из чего состояли быт и работа этой государственной ячейки, — все это взвихрило настырные мысли о том мире за пределами опытного хозяйства, о мире ухабистых дорог и ничегонеделания, о мире, где пьют и не поют и глобально дерутся за мелкие и сомнительные выгоды (Григорьев вспомнил сотрудницу из своего КБ, которая написала двадцать восемь жалоб на то, что ее кульман поставили не у окна, как ей хотелось, а у противоположной стены, — как бы решили эту проблему Самсоновы? прорубили окно в потолке? О том, что такая проблема у них не возникла бы, почему-то не хотелось думать). И тот внешний, неустроенный мир вдруг приобрел в глазах Григорьева какие-то права и преимущества перед здоровой ячейкой Самсоновых, как приобретает такие права и преимущества тяжело больной человек или малый ребенок, а Самсоновы стали казаться бессердечными, почти уродами, как бы нарушившими некую клятву Гиппократа, которая должна приноситься каждым вступающим в социальную зрелость.
Конечно, он понимал, что все они заняты важным делом и не на пустом месте противостоят вшестером двум научно-исследовательским институтам, но почему-то хотелось призвать их к ответу и спросить за двадцать восемь заявлений по поводу кульмана у стены, за хамство бытового сектора, за согласованную общественную подлость красного уголка и за безнадежный шаг его сестры, которая не снизошла до объяснений с оставшимся в живых человечеством. Шевельнулось смущение, что не на тех он вешает всех собак, что именно Самсоновы ему помогли, и встретили, и вывели из комы отчаяния, но тем больше ему хотелось обвинить их и потребовать ответа за зло, совершающееся в мире.
Не потому ли хотелось этого, что спросить можно лишь с тех, кто захочет принять на себя вину и решится пойти на крест за чужие нелепости, кто, мыслящий, избавит тебя от собственного недомыслия и кто, деятельный, оставит тебя в безответственной лени? Не хотел, не хотел он думать об этом, он жаждал обвинить их, чтобы оправдать других, и себя, и Сандру, и чувство это нарастало в нем, он уже не смел поднять глаза на приветивших его людей, чтобы не сорваться и не наорать, что ненавидит их лад, их покой и их неуязвимость, и он наорал бы, если бы не знал заранее, что и крик его внимательно выслушают, поймут и простят, и не перестанут улыбаться и, чего доброго, еще раз отпарят в бане и обратят в свою веру.
Он неловко оттолкнулся от стены, бормотнул безличное спасибо и что-то вроде того, что ему надо срочно идти.
Наталья Онисимовна участливо сказала, что гроза, он внутри себя заорал, что да, гроза, грозу-то ему и надо, что он не в силах больше видеть ничьи лица, особенно самсоновские, но не заорал, конечно, а только вымученно скривился как бы в улыбке, и хозяйка молча поднялась за ним и пошла проводить, и вывела за ворота станции и указала дорогу, и он пошел, не замечая расстояния и времени, пребывая только в себе, хмурясь и вслушиваясь в наполнявший его шум.
Я виноват перед тобой. Я виноват. Я был старше. На одиннадцать лет старше. Я мужчина. Но я не знал, что это значит. И вряд ли знаю сейчас. Ты догадалась и не ждала от меня помощи. А я, вероятно, думал, что если не ждут, то и не нуждаются.
Он шел усмехаясь и презирая себя до полного уничтожения, шел в быстро сворачивающихся сумерках, в устремившейся к нему со всех сторон плотной духоте и сухом, похожем на оборванный недобрый смех, треске обкладывающих его молний.
Он холодно и презрительно подумал, что не выйдет из этой грозы живым, и выгнал эту мысль вон. Он шел по середине дороги, зачем-то отпинывая ссохшиеся комья омертвелого грунта и не обращая внимания на скручивающийся вокруг него грозовой эпицентр. Рваные мысли высвечивались в мозгу и, многократно повторившись, сникали, чтобы вновь выскочить из темных внутренних пустот.
Читать дальше