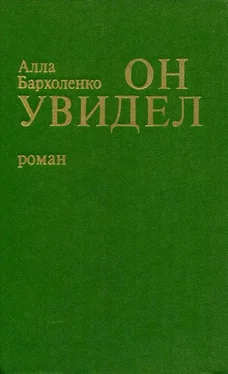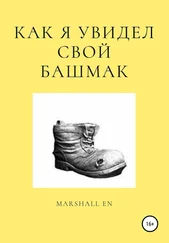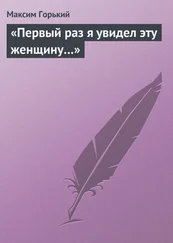— Что это? — хмуро спросил Григорьев.
— Справка о смерти, которую вы почему-то не спросили, — рассеянно обегая взглядом окрестности, ответила главный врач, но вдруг в глазах ее мелькнуло что-то растерянное, а губы брезгливо дернулись: — Странно, она оказалась девицей.
И, сказав это, главный врач с удовлетворенной величественностью удалилась.
Зачем она сюда приходила? Чтобы сказать именно это? Чтобы слышали другие? И следует понимать, что указанный факт смешон, противен и почти уголовно наказуем?
Санька зажмурилась и прижалась к холодной каменной стене. Все молчали, стараясь не видеть друг друга. Молоденькая санитарка, у которой тряслись руки, не смогла открыть замок и заплакала.
— Ну, чего ты, ну, чего ты, — забормотал, шагнув к ней, Самсонов. — Не открывается? Пустяки, сейчас сделаем. Надо же, ручоночка-то у тебя какая крохотная, такой разве откроешь, давай я сам, дочка…
Замок сняли. Дверь с одиноким скрипом отворилась в темноту.
Санитарка, не входя, нащупала внутри выключатель, щелкнула им, всхлипнула и побежала обратно, в живой больничный корпус.
— Завихрения какие-то вокруг вас, Григорьев, — вздохнул Самсонов. — Что ж… Внесем гроб?
Григорьев охотно отступил от пусто светившейся двери, еще на минуту отдаляя последнее.
Они взяли гроб, спустились по широкой лестнице в подземное помещение, поставили его на свободный каменный стол рядом с тем, на котором лежало накрытое простыней.
— Ты погуляй пока, — сказал Самсонов Григорьеву. — Мы тут сами.
— Нет, — сказал Григорьев.
Он взялся за край простыни, помедлил еще и отодвинул. Взглянув на замкнутое, совсем другое, чем он помнил, лицо, на спутавшиеся светлые волосы у голого плеча, он не ощутил ни потрясения, ни страха, ни сокрушения, а одну только пустоту, отступил на шаг и оглянулся.
— Идите, идите, Николай Иванович, — сказал Самсонов.
Григорьев послушно отошел к дверям и стал бездумно смотреть оттуда на большой белый мир. За его спиной двигались, переговаривались вполголоса, Санька зачем-то пробегала в больничный корпус, а потом известила Самсонова изумленным шепотом:
— Сказали — прямо из шланга…
«Шланг? Что — из шланга?» — безразлично-удивленно подумал Григорьев и невольно повернул назад, и сверху, с лестницы, ведущей в подземное помещение, взглянул на каменный стол и, тут же спохватившись, невидяще уставился в яркую дневную дверь, на углы жилых пятиэтажек и тяжело гудящую стройку за ними, но в нем все равно успели запечатлеться подробности, которые не раз будут-потом непрошенно всплывать из забвения и которые, чем больше будет Григорьев их отгонять, тем коварнее будут подстерегать его, и только тогда, когда Григорьев беззащитно отважится разглядеть их, они смущенно отодвинутся, задернутся дымкой, расплывутся и навсегда оставят его. Пока же увиденное лишь отложилось впрок, не успев проникнуть в торопливо захлопнувшееся сознание.
Григорьев покинуто стоял в дверном проеме перед, яростным белым простором, перенасыщенным жизнью, и думал, что нигде не сможет укрыться от видения смерти. Он попался в ловушку, оглянуться назад или смотреть вперед — для него одно и то же, теперь во всем, что ему ни встретится, он будет опознавать распластанное тело сестры, на которое мегатонной грудью обрушилась ко всему готовая земля.
Позади зашипела и многоструйно полилась на цементный пол вода, в холодном застойном воздухе морга эти звуки показались зловещими и нехорошо многозначительными. Потом литься перестало, и только все более редкие капли громко ударялись о каменный пол, будто вскрикивали.
«Нет, — вдруг подумал Григорьев, — я не хочу, чтобы меня хоронили. Чтобы кто-то чужой равнодушно мучался, добывая гроб и что-то делая с моим никому кроме земли не нужным телом. Пусть я умру где-нибудь в лесу, чтобы меня не нашли и чтобы быстро кончилось. Стыдно, все это стыдно, как же у человека все стыдно…»
Чуть задев его, снова прошмыгнула Санька и через сколько-то вернулась, таща несложенные, будто откуда-то сдернутые простыни. Санькино лицо мозаично полыхало красными и белыми пятнами.
«Так и есть, вытащила простыни с незанятых кроватей и при этом ругалась с теми, кто не давал вытаскивать, — определил Григорьев с едкой горечью. — Как же раньше, когда хоронили отца, потом мать, не было такого стыда? Тогда было даже торжественно и ничто не мешало страдать тем, у кого была в этом потребность. Зачем же сейчас, зачем все эти дни мне причиняют не ту боль? Да и не в этом дело, не во мне, не за себя мне больно и не за сестру, а за всех их, чужих, на минуту мелькнувших, из-за них мне так горько, как будто они и есть самая большая моя потеря, моя безвыходность, моя смерть, и не похороны сестры у меня сейчас, а другие, грандиозные, вселенские похороны, и потому моя боль не может уменьшиться, а может только расти…»
Читать дальше