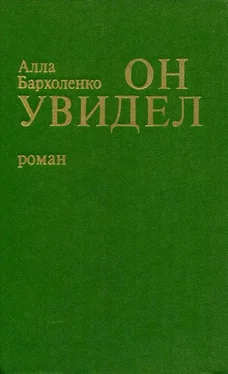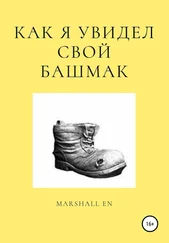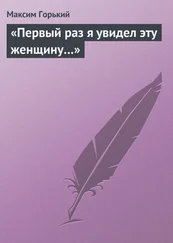Подняли гроб на машину, пришлось накрыть крышкой, потому что иначе не получалось, и повернули к общежитию, это было недалеко. Самсонов ехал медленно — и дорога в ухабах, и положено, лицо его строго подобралось, взгляд ушел вдаль, и Санька, сидевшая рядом с ним, тоже подобралась и выпрямилась, стала тоненькой и скорбной, и черный кружевной шарфик на голове, вчера же, видимо, и купленный, еще коробившийся от новизны, кидал благородные тени на ее совсем побелевшее лицо.
Григорьев же не мог отделаться от ощущения стыда и неловкости, которые всегда возникали в нем, когда приходилось чего-то требовать для себя. Вот и сейчас: какие-то люди там, куда они едут, заняты своими, необходимыми им делами, думают о важном для них, а он ворвется в их существование с гробом, заставит оторваться от своего и полюбопытствовать о чужом, и те под Моцарта и Шопена сделают это, но любопытство их будет легковесным и оскорбит его, он не желает ничего вынужденного, и ему снова будет стыдно.
Когда остановились около общежития, Санька вылезла из машины:
— Вы подождите, а я посмотрю, как там.
Григорьева тут же обожгло плохое предчувствие, и он заранее покраснел.
— Не надо было… — пробормотал он в затылок Самсонову. — Ничего этого не надо было, зачем делать вид…
Санька выбежала из общежития растерянная, виноватая и какая-то сдвинутая: черный кружевной шарфик съехал на бок, воротничок у платья загнулся, а рот жалко кривился в одну сторону. Она согнулась перед машиной и лепетала:
— Я не знаю, я ничего не понимаю… Там лекция, в красном уголке, Я же договаривалась, а они вдруг лекцию — о том, каким должен быть человек… — Санька ожесточенно всхлипнула. — И народу сидит — битком. Они… Понимаете, они — о Сандре. Что она поступила безнравственно. Они даже примут резолюцию, которая осудит. Но я, честное слово, договаривалась, вчера вечером обо всем договорилась!
Санька прерывисто вздохнула, стояла не разгибаясь, ждала кары.
— Что ж, ребятки, — спокойно проговорил Самсонов. — Лекция — дело нужное, и поговорить там, наверно, есть о чем. А мы давайте прямо на кладбище. Садись, дочка, и показывай, где тут.
Но Санька не села, а только ниже опустила голову.
— Ну? Чего же ты, деваха? — спросил Самсонов.
— В район надо, — тихо сказала Санька. — Здесь нету.
— Чего нету? — не понял Григорьев.
Самсонов остановил:
— Тише, Григорьев, тише…
— Сорок километров?.. В этот город?.. А дорогу вы видели?
— Подождите, ребята, тут как-то не так, — сказал Самсонов.
— Да так, все так! — крикнул Григорьев. — Именно так! В тот город и по той дороге! По которой машины вереницей туда, вереницей сюда, по которой от пыли в метре ничего не видать! Все так!
— Подождите, Григорьев…
— Нас или собьют, или сами вывалим! Да что же это, что, что? — колотил Григорьев по креслу Самсонова сжатыми кулаками. — Почему с человеком нужно так?..
— Послушайте, Григорьев, это же недолго — кладбище отвести. Земли вон сколько. Пойти в управление и попросить.
— Попросить? — шепотом кричал Григорьев. — Кладбище просить?
— Да была я вчера, — сказала Санька. — В стройуправление ходила, разговаривала.
— Ну?.. — заорал Григорьев.
— Ну, и вот, — ответила Санька.
Григорьев толчком откинул переднее сиденье, ринулся из машины.
— Где?.. — бешено спросил он у Саньки.
— Через два дома, — показала та.
— Суббота же, — напомнил Самсонов.
— А у нас сегодня работают, — сказала Санька. — Для помощи всемирным детям.
Григорьев какими-то длинными прыжками ринулся к зданию.
В стройуправлении, перепугавшись перекошенного григорьевского лица, его сразу отвели к работнику, занимавшемуся бытовым сектором и в данный момент пребывавшему за своим столом на перерыве.
— Илья Ильич, к вам…
— Я что — не человек? — спросил Илья Ильич. — У меня что — не обед?
— Илья Ильич, тут в виде исключения.
В комнате было три стола, два по одной стене и один отдельно, лицом к посетителю, у другой. За отдельным и сидел Илья Ильич, неопределенного возраста, с покатыми и полными, как у женщины, плечами, в сетчатой белой тенниске и квадратных очках.
— Слушаю вас, — в виде исключения сказал Илья Ильич.
— Мне надо похоронить, — сказал Григорьев, испытывая брезгливость к голым рукам Ильи Ильича, покойно лежавшим поверх многочисленных бумаг.
— Ах, вот о чем, — чуть отстранился Илья Ильич. — В чем же дело? Хороните.
— Где? — спросил Григорьев, глядя в искаженно-выпуклые за стеклами, как бы бессмысленные глаза.
Читать дальше