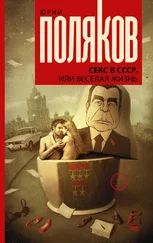– Иван Никитич, как вы на фронте поступали с повинившимся предателем? – строго посмотрел на Борозду Сухонин.
– Петлю на шею! – отчеканил тот.
– Вот вам ответ! Только так!
– Так, да не так… – вздохнул Застрехин. – По-всякому бывает. Давешней зимой отвел лапник, глядь, белячок на полянке сидит и хрумкает. Я тулку вскинул, он увидал меня и как заверещит, ровно младенчик зашелся…
– И что, не стрельнул? – поинтересовался Борозда.
– Стрельнул, но потом и сам обрыдался.
– М-да… – Сухонин задумчиво откинул волосы со лба.
Открылась дверь, и в кабинет заглянула Мария Ивановна:
– Теодор Тимофеевич, из Ремстройжилуправления какой-то заяц звонит. Они письмо от нас получили и готовы сделать ремонт, но к приезду теннисиста Уильямса не успевают. Только в первом квартале.
– Какое, к черту, письмо? Какой еще, к дьяволу, теннисист? Пусть звонят в Спорткомитет. Я ничего такого не подписывал. Я занят…
– Вроде бы Палаткин подмахнул.
– С какой стати? У него нет права финансовой подписи! Что за чепуха? С ним и разбирайтесь, а мне голову не морочьте! У меня совещание.
Удивленная Мария Ивановна исчезла.
– Итак, товарищи, подытожим: никакого миндальничанья, партийная твердость и принципиальность! – ТТ вынул из кармашка серебряную луковку и откинул крышечку. – В котором часу у вас аутодафе?
– В пятнадцать ноль-ноль, – хмуро подсказал Шуваев.
– Хорошо. Все свободны. Владимир Иванович и Ярополк Васильевич – вас я попрошу остаться! Что-то Николай Геворгиевич запаздывает.
Мы гурьбой вышли в приемную, секретарша еще доругивалась по телефону:
– Ну нет здесь Палаткина, нет! Писатели на работу не ходят… А вы ходите? И что толку?! У меня батареи как текли, так и текут… Я понимаю, заяц, что паркет фондирован… Как только Мартен Минаевич тут появится, сразу вас с ним соединю…
В приемную, словно из-за кулис на сцену, вбежал Лялин и запел: «Зачем, зачем ты, черный вестник, уста-а-а-а-алого торопишь скакуна-а-а-а-а-а?»
Большой поэт пришел из ресторана.
Он изнемог в идейной духоте:
Кругом литературные бараны
И крашеные овцы в декольте.
А.
Озадаченная суровой установкой, комиссия, перешептываясь, спустилась по скрипучей лестнице в холл и побрела в партком. Пантеист Пришвин, сидя на пеньке, проводил нас сучковатым взглядом. Он был вырезан из дерева в человеческий рост и покрыт лаком. В Пестром зале будущий председатель общества трезвости Гагаров требовал у буфетчицы «еще сто грамм».
– Стасик, хватит, опять под столом уснешь! – урезонивала его добрая женщина. – Ты и так уже никакой!
– Что-о! Я никакой? Скажите ей! – обратился он за поддержкой к комиссии, шествовавшей мимо.
– Налей ему, не отвяжется! – посоветовал Борозда.
– Слышала?! Наливай!
– Не налью!
– Правильно, – тихо одобрила Ашукина, измученная пьющим мужем.
– Палачи! Сатрапы! Не отмоетесь!
Мы вошли в узкий проход, где располагался бар, и двинулись вдоль стойки. На высоком вращающемся стуле в одиночестве неподвижно сидел Перебреев и с нежной ненавистью смотрел на опустевший стакан. Барменша Люся, стараясь не шуметь, протирала полотенцем фужеры, вдруг стекло под жесткой материей скрипнуло. Тихий лирик вскинулся и жестоко погрозил пальцем помертвевшей женщине.
– Какая-то передислокация наверху, – шепнул мне Борозда. – Я этого Альберта знаю. Редкий интриган.
– Какого Альберта? – спросила Ашукина, еще не усвоившая имен партийных небожителей.
– Альберта Андреевича Черняева…
– Тот еще скунс! – подтвердил Застрехин. – Ишь ты, жаканом решили Лешку бить! Как кабана…
– К тому все и шло. Обнаглел! – процедил Флагелянский, сладко кивнув встречному литературному юноше.
– Нельзя же так, товарищи! – ахнула Ашукина. – Егор, вы как председатель должны…
– Глядь-ка, председатель! – пихнул меня в бок Борозда. – Ну не обормот?
У мраморного камина за почетным столиком, который я заказал на вечер, обедал Ковригин, да не один, а в обществе темноволосой красавицы. Перед ними на столе теснились графин водки, бутылка «Цинандали», серебряная плошка с черной икрой и множество закусок на тарелочках. Когда мы проходили мимо, опальный классик сделал вид, будто нас не замечает, и повлек полную рюмку к жирным губам, вытянутым требовательной гузкой, а его подруга изящно поднесла к округлившемуся алому рту вилку с куском севрюги. Поговаривали, даму зовут Амалия, классик из-за нее решил-таки развестись со своей старинной женой, хотя та давно относилась к его изменам как к сбору жизненного материала для новых книг. Обиженная супруга, не будь дурой, потребовала себе при разделе имущества половину икон, а Ковригин много лет любовно собирал «черные доски» по глухим углам Святой Руси. Писатель заколебался…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
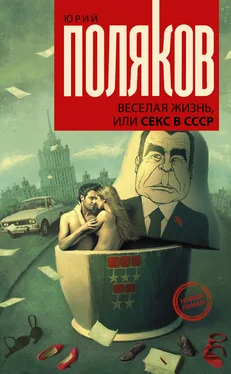

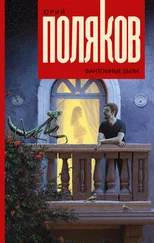

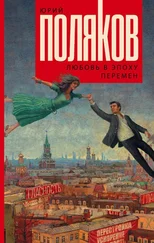

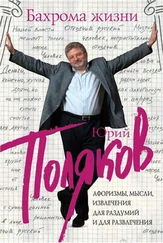

![Юрий Поляков - Треугольная жизнь [сборник litres]](/books/404949/yurij-polyakov-treugolnaya-zhizn-sbornik-litres-thumb.webp)
![Юрий Поляков - Треугольная жизнь [сборник]](/books/404950/yurij-polyakov-treugolnaya-zhizn-sbornik-thumb.webp)