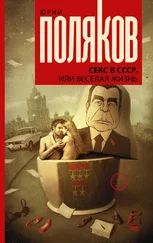– Понял.
– Не по мне такие игры, Егорушка, тошнит! У меня сердце для этого слишком маленькое. «Воздержания» мне, конечно, не простят. Может, и к лучшему. Пора на дачу – горох сажать…
Он налил еще по рюмке и разломил новую конфетку – на этот раз «Мишку на севере». Мы выпили, помолчали… В окно было видно, как из Театра киноактера снова кого-то выносят, но на этот раз без оркестра и почти без провожающих.
– Владимир Иванович, – осторожно начал я, – мне вот что непонятно. Почему Ковригин стал вдруг каяться? Вы уговорили?
– Если бы… Я его умолял, в ногах валялся, но Лешка уперся, как баран: «Не повинюсь! Пусть исключают! Тогда мне точно Нобелевскую дадут!» Потом как подменили мужика. Бутов объяснил, что с ним серьезно поговорили. Чуть ли не Бобков. Пригрозили, мол, будешь ерепениться – дадим 48 часов на сборы и полетишь в гости к Солженицыну, а твои иконы и красотки тут останутся. Никогда больше не увидишь. А русскому человеку, Егор, туда отъехать – как умереть. На этом Лешка, видно, и сломался. Не железный. Да и Амалия хороша! Такая баба мужику раз в жизни достается, из-за таких фиф раньше стрелялись. Так с ним и договорились: он кается, но мы его все равно исключаем, а старшие товарищи, учитывая раскаяние, нас поправляют. А тут мы с тобой…
– Но ведь не только мы с вами…
– Дурачок, при единогласном решении «первички» сложнее на бюро отменять исключение. Можно, конечно, но хотели сделать красиво, чтобы комар носа не подточил. Лялин и ТТ переговорили с людьми, раздали роли, так сказать… С тобой ведь тоже беседовали?
– Ну да…
– Кто ж знал, что ты такое выкинешь! Ты точно ничего не знал про обстановку наверху?
– Откуда?
– Верю. А попал в яблочко! На Лубянке к твоей выходке с интересом отнеслись. Будут звать на работу – не ходи: писателю там делать нечего. На этом Бабель сгорел. Марков, когда узнал про твое самовольство, тоже тебя похвалил в узком кругу. Они же с Ковригиным из одной деревенской шинели вышли. Михалков что-то хорошее про тебя проблеял. А вот ТТ большой зуб заточил.
– За что?
– Так ты ж, мил человек, у него лавры миротворца отобрал! Он хотел явиться в партком и своим голосом перевернуть ситуацию, а потом доложить: мол, если бы не я… А вышло так, что он у себя вроде как не хозяин. Да и Палаткин успел Черняеву наябедничать, мол, в Московской организации черносотенцы голову поднимают… Дошло?
– Дошло.
– А теперь честно, как коммунист коммунисту, скажи-ка мне, парень: почему проголосовал «против»? Только не ври! Ничего тебе за это не сделаю. Я просто понять хочу.
– Все равно не поверите…
– Расскажи – там посмотрим.
– Понимаете, мне накануне один человек посоветовал: голосуй по совести, тогда выиграешь.
– И что за человек?
– Вы смеяться будете…
– Вот заладил! Назови, а я уж сам решу: смеяться или плакать.
– Кольский.
– Какой еще Кольский?
– Которого похоронили.
– В каком смысле?
– В прямом. Я с ним накануне ночью разговаривал.
– Во сне, что ли?
– Сам не пойму…
– Ясно. А старая графиня тебе три карты не предлагала?
– Я серьезно.
– И я серьезно. В отпуске давно был?
– Давно.
– Пиши заявление. Тебе успокоиться надо. Да и ТТ за это время остынет. Но место себе, если честно, начинай подыскивать. Я уйду – прикрыть тебя некому будет.
– А на газете кто останется, Макетсон?
– Вряд ли… Еврей. К тому же на него контора взъелась. Не знаешь, за что? Он вроде с ними всегда ладил.
– Не знаю… Может, из-за развода?
– Брось, у нас полсоюза разведенные. Не повод. Теодор со мной пару раз о Торможенко разговоры заводил. Он его по Литинституту знает. Хвалил. Как парень?
– Никак. Бездельник. Он ведь Кольского и проглядел, как «свежая голова».
– Ясно. Своего тянет. Придумаем что-нибудь. Ты, Егорка, главное не казнись. Мы с тобой сделали все правильно. А уж как вышло – так вышло. Поезжай куда-нибудь, напейся, посочиняй, влюбись. Только без разводов. А всю эту историю лет через двадцать вспомнишь и посмеешься. Пиши заявление на отпуск!
– С какого дня?
– Лучше с сегодняшнего.
На столе зазвонил телефон.
– Да, Василий Константинович, расхлебываем… Да, один сижу, могу говорить. – Шуваев, морщась, махнул рукой, выпроваживая меня из кабинета.
Владимир Иванович умер в 1995 году, 9 мая, в день 50-летия Победы. Смотрел по телевизору парад, который почему-то проводили не на Красной площади, как обычно, а на Можайском шоссе, возле срытой Поклонной горы. Кремль волновался: прилетит на торжества Клинтон или побрезгует. Но друг Билл все-таки прибыл, стоял на трибуне рядом с бухим Беном и ухмылялся конноспортивными зубами. Маленькое сердце фронтовика не выдержало позора и разорвалось.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
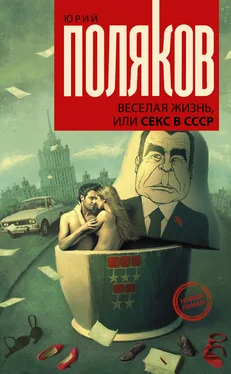

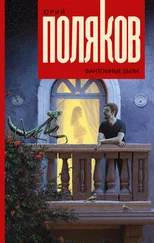

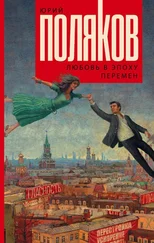

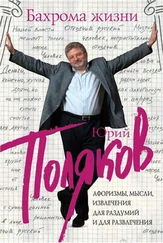

![Юрий Поляков - Треугольная жизнь [сборник litres]](/books/404949/yurij-polyakov-treugolnaya-zhizn-sbornik-litres-thumb.webp)
![Юрий Поляков - Треугольная жизнь [сборник]](/books/404950/yurij-polyakov-treugolnaya-zhizn-sbornik-thumb.webp)