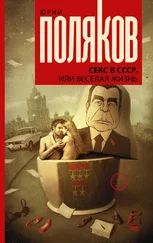– Я виноват, я очень виноват, но понимаете, неделя была сумасшедшая – похороны, переверстка, персональное дело Ковригина. Я был председателем комиссии…
– Председателем вы оказались таким же, как и редактором газеты. Надеюсь, моя мысль понятна? Темное пятно двурушничества надолго, если не навсегда, останется на вашей биографии.
– Но ведь…
– Молчать! Не спорить! Боюсь, нам трудно будет впредь работать вместе. Я бы уволил вас немедленно, но редактора многотиражки у нас утверждает партком. – ТТ развел руками и повернулся к испуганным вдовам. – А наш добрейший Владимир Иванович отчего-то питает к вам, мистер Полуяков, странную слабость, хотя по совести гнать вас надо в шею!
– Теодор, не надо, – слабым голосом попросила старшая вдова. – Мальчик очень хорошо сказал на панихиде. Он ошибся. Бывает.
– Быва-ает… – как эхо, подхватила младшая.
– Ах, какие вы все сегодня добрые! А вот я в ЦК пойду, на ковер! – Он резко повернулся ко мне. – Благодарите, растяпа, этих великодушных женщин! Вам сегодня дважды повезло. Идите, мне тяжело вас даже видеть… Стыдно, молодой человек, перед ушедшим героем стыдно! – Он ткнул жирным перстом в газетную фотографию Кольского.
Я невольно проследил взглядом движение пальца и ощутил в теле гнусную предобморочную невесомость, мертвый сквозняк тронул мой бедный лоб. Только теперь, всмотревшись в снимок, я понял, наконец, с кем разговаривал позавчера ночью под лестницей в Переделкино. Наверное, именно так люди сходят с ума. Повернувшись, я побрел к двери.
– Вы ничего не забыли? – вдогонку грозно спросил Сухонин.
– Я?.. – Мне с трудом удалось остановиться и обернуться.
– Да – вы! Если бы в вас оставалась хотя бы йота порядочности, вы бы извинились перед несчастными женщинами!
– Простите, пожалуйста…
– Ну, хоть на это вы еще способны! – ТТ посмотрел на меня с каким-то мстительным удовлетворением. – А наш разговор про улучшение жилищных условий забудьте навсегда. Ясно?
– Ясно, Теодор Тимофеевич…
– Идите!
Сухонин умер в 2015-м, надолго пережив свое былое могущество и оставшись всего-навсего рядовым членкором Академии наук, что, впрочем, тоже немало. Вошедшие в силу либералы системно мстили ему за тщетную попытку русифицировать Московскую писательскую организацию, делая вид, будто ТТ никогда не было в литературном пространстве. Отвернулись от Сухонина и многие соратники, не забыв обиды, уклоны и вынужденные компромиссы, слишком похожие на подставы. Толя Торможенко написал о своем учителе гнусную статью, обозвав его «лукавой химерой русского дела». Все они не понимали или не желали понять, что человек, поднятый на ветреные высоты власти, неизбежно превращается во флюгер, покорный любым политическим веяниям, и свою принципиальность он порой может выразить лишь с помощью жалобного скрипа при вынужденных разворотах и коловращениях.
ТТ к изменам соратников и проискам врагов относился снисходительно, так как и сам верностью не отличался, легко сдавая ненужных союзников и отработанных сподвижников. Он вообще воспринимал литературу и жизнь как занятную многоходовую интригу, изначальная цель которой затерялась в многообразии борьбы. Зато Сухонин не скучал на пенсии и долго оставался бодр, азартно ввязываясь во всяческие схватки и заговоры, но особенно в свары вокруг несметной писательской собственности. Когда ТТ по случаю возглавил Литфонд, он приблизил к себе некоего Перезверева, мелкого хозяйственника, сочинявшего беспомощные стихи. Малограмотный до дремучести, он начинал свои отчеты на правлении словами: «Долаживаю, товарищи, о проделанной работе…» Мудрый Теодор Тимофеевич все верно рассчитал: он, членкор, будет царствовать, а завхоз вкалывать и приносить доход. Но Перезверев оказался не так прост, организовал заговор и сверг благодетеля. Началась война. Я к тому времени перебрался на ПМЖ в Переделкино и тоже волей-неволей оказался втянут в борьбу с самозванцем, растянувшуюся на годы, ибо в наших судах можно, конечно, добиться справедливости, если ты научился печатать на цветном принтере настоящие деньги.
Как-то незаметно мы стали с Сухониным соратниками и почти друзьями. Он мне позванивал, причем всегда утром, когда я, если накануне не напился, обычно сидел за письменным столом, истязая дряблое вымя вдохновения. Мне страшно не нравилась эта его привычка, я просил не беспокоить меня до обеда, так как любой разговор выбивал меня из рабочего состояния. Он извинялся, обещал исправиться, но в следующий раз вновь выходил на связь чуть свет, всегда начиная разговор одной и той же фразой, которую произносил со своим знаменитым придыханием:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
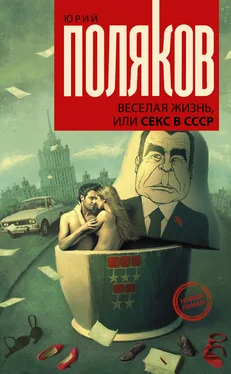

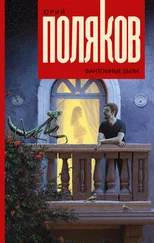

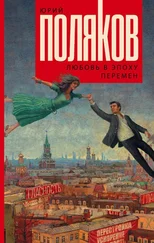

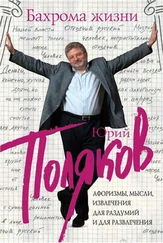

![Юрий Поляков - Треугольная жизнь [сборник litres]](/books/404949/yurij-polyakov-treugolnaya-zhizn-sbornik-litres-thumb.webp)
![Юрий Поляков - Треугольная жизнь [сборник]](/books/404950/yurij-polyakov-treugolnaya-zhizn-sbornik-thumb.webp)