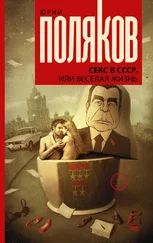– Какая дура?
– Бабка моя. Короче, она, как обычно, поехала к Изольде в Абрамцево, они там нажрались наливки из черноплодки, стали молодость вспоминать, и эта зараза Изольда ни с того ни с сего призналась, что у нее с краскомом Усольцевым тоже было, она даже от него аборт делала. Моя – в обморок.
– Из-за чего?
– Из-за ревности. Бабку по «Скорой» в Загорск. Я – туда. Она под капельницей. У койки на коленях Изольда рыдает. Помирились. Жор, ты прости, что у нас с тобой какой-то водевиль получается. Папа дома – мамы нет, мама дома – папы нет. Ты мою записку прочитал?
– Какую записку?
– Я тебе в двери оставила на всякий случай.
– Хм…
– Наверное, соседский пацан спер, редкий гаденыш. Еще я тебе домой звонила…
– Зачем?!
– Чтобы отбой дать. Трубку сняла не жена, а какая-то тетка. Но я же не дура, два раза на одни грабли наступать, сказала противным таким голосом, что беспокоят из райкома – заседание бюро сегодня отменяется.
– Бюро по средам.
– Да? Не важно. Интеллигентная, спокойная женщина. Выслушала, обещала все тебе передать. Значит, не передала?
– Нет.
– Мама твоя?
– Теща.
– Ой, блин. Наверное, догадалась…
– Не переживай! Я из дома ушел.
– Офигеть! Из-за меня?
– Получается, из-за тебя.
– Жуть. И где ты сейчас?
– В Переделкино, в Доме творчества.
– Да ты что?! У нас послезавтра халтура в Голицыно.
– А завтра что у вас?
– Завтра едем с Игорем в Загорск – бабку проведывать. Ему друг тачку одолжил.
– Я бы тоже мог, у нас редакционная машина…
– В другой раз. У тебя там есть телефон?
– Есть.
– Пишу.
Я продиктовал номер и предупредил, что дозвониться очень трудно, все время занято, надо постоянно набирать, тогда есть шанс вклиниться между писательскими разговорами.
– Прорвемся. Пока-пока! Целую крепко, ваша репка!
В кабинет зашел, хитро улыбаясь, Пчелкин.
– Поговорил? На улице подожди. Мне тоже секретный звоночек надо сделать.
Я допил коньяк, почувствовал доброе жжение в пищеводе, а чуть погодя – нежный удар в затылок. Жизнь возвращалась ко мне, как любящая женщина. Черное небо мерцало, словно расшитое блестками платье певицы областной филармонии. На крыльце сидел кот и, задрав голову, смотрел на звезды. Я спустился по ступенькам и пошел в сад, уже наполовину облетевший. За спиной падали листья, и казалось, за мной по пятам кто-то крадется. От мысли, что во вторник Лета приедет ко мне в Переделкино, душа затомилась надеждой. Из-за забора донеслись приближающиеся голоса, они показались знакомыми, и я осторожно глянул в заборную щель: напротив, под фонарем, остановились, гремя спичками, Ковригин и Шуваев. Сначала потянуло едким «Беломором» – это закурил партсек, а затем повеяло пряной роскошью «Мальборо» – это затянулся и выдохнул вождь деревенских прозаиков.
– Леша, ты идиот и совсем не понимаешь, что происходит?! – явно продолжая спор, упрекал Шуваев.
– И не хочу ничего понимать. Заели, сволочи! Нерусь проклятая. Я уеду!
– Куда? Кто тебя выпустит? Ты же не еврей…
– К черту! Сбегу. Попрошу политическое убежище! У меня командировка во Франкфурт, на книжную ярмарку.
– Ты мне зачем это говоришь?
– А что – донесешь?
– Обязан.
– Доноси!
– Дурак, кому ты там нужен?
– Нужен. Мне Нобелевку дадут.
– Кто?
– Дед Пихто!
– Леша, не чеши хер о колючую проволоку! Доиграешься.
– А что они мне сделают?
– Кислород перекроют!
– Я – Ковригин!
– Ты балда! Забыл, сколько таких Ковригиных они разжевали и выплюнули?
– Мной подавятся.
– Повинись, дурак!
– За что? Никогда!
– Тебя же из партии вышибут!
– Не вышибут. Меня народ любит.
– Снова здорово… Ну, чего встал, пойдем!
– Погоди, погоди, Володя, крыша мне у этого борзописца понравилась. Вечная черепица! Небось по знакомству, гнида, достал. Мне бы такую – в Залепино…
– Наверное, какой-нибудь оборонный завод штампует.
– Узнаю и себе закажу.
– Как же, за такой в очереди лет десять прождешь.
– Ничего, я письмишко у Маркова подмахну и без очереди возьму! – засмеялся Ковригин.
– Ты же в эмиграцию собрался, Мальбрук хренов…
Фигуры скрылись, голоса отдалились и заглохли. Только в воздухе веяла странная смесь «Беломора» и «Мальборо». Из дома вышел Пчелкин, запер дверь, сунул ключ под жестяной отлив, и мы пошли в Дом творчества, а когда поровнялись с дачей песенника Дерибасова, Александр Изотович хихикнул:
– Ну вот – что я тебе говорил!
Шторы большого фронтонного окна были раздернуты, точно театральный занавес, и там, как на освещенной сцене, сидела в плетеном кресле морщинистая красотка в красном ажурном пеньюаре и черном парике, похожем на баранью шапку. По-балетному воздев худую ногу, она медленно совлекала с варикозной конечности кружевной алый чулок. Напудренное лицо старушки искажалось мечтательной улыбкой, на которую ушел, надо думать, целый тюбик помады.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
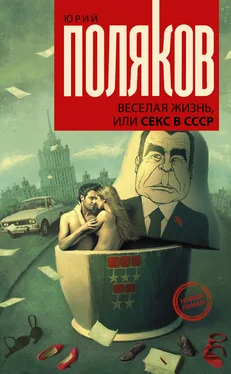

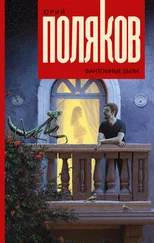

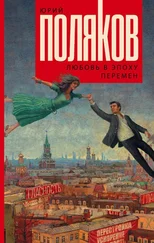

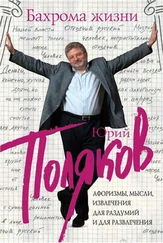

![Юрий Поляков - Треугольная жизнь [сборник litres]](/books/404949/yurij-polyakov-treugolnaya-zhizn-sbornik-litres-thumb.webp)
![Юрий Поляков - Треугольная жизнь [сборник]](/books/404950/yurij-polyakov-treugolnaya-zhizn-sbornik-thumb.webp)