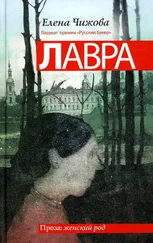Присваивая почетное звание хранителя, я отдаю себе отчет в том, что совершаю психологический перенос. На самом-то деле Петербург хранит меня.
Доказательство этому я получила, вернувшись из второй в моей жизни эвакуации, когда, унося ноги с Комендантского аэродрома (районы спальной застройки – не Петербург), а точнее, из неудавшейся семейной жизни, сняла квартиру на углу Маяковской, от Невского проспекта в каких-нибудь двадцати шагах. Эта бывшая дворницкая или, попросту, трущоба – с подобием кухни, втиснутой в уголок прихожей, душем в туалете и подоконниками вровень с асфальтом – меня спасла. Много месяцев маявшаяся тревожной бессонницей, здесь я в первую же ночь заснула сном младенца: под защитой своего города, под его покровом, непроницаемым для страхов, мучений и бед.
В любую темную подворотню или подслеповатую парадную я вхожу без тени страха: здесь, в этом городе, на этом пятачке вселенной, мой страх не отбрасывает тень. Будто это не город-левиафан, сколько раз ломавший и перемалывавший человеческие кости, – и отродясь им не был; и не город как таковой, имеющий свои явные и тайные пороки. Даже мокрый, скользкий, промозглый (в ноябре [52]) или заваленный январским снегом, он умеет обвести меня вокруг пальца, блеснув такой запредельной красотой, пред которой меркнут любые обвинения. Что уж говорить о поре белых ночей. Под их прозрачно-призрачным покровом перехватывает горло и сбивается дыхание так , словно нет на свете ничего важнее и значительнее – ничего во веки веков оправданнее – этих подпыленных, подточенных городскими миазмами, домов.
Дворцы, соборы, церкви, театры, библиотеки – все, что в иных широтах называется «объектами недвижимости», здесь вечно живое и подвижное, меняющее (в зависимости от времени года или дня и ночи) все, что только можно себе представить: от абриса-контура до выражения фасада-лица. И уж если на то пошло, единственным завоеванием «пролетарской революции» – большевистского переворота, лишившего мою прабабушку ее юридически оформленной собственности, – я считаю передел всей «царской недвижимости» в пользу горожан. Нам, родившимся в убогих коммуналках, эти «царские палаты» достались в неоспоримое наследство, и потому (говорю для сведения борзых и ушлых, полагающих, будто все это местный фольклор, безобидные городские чудачества) здесь царедворцы – мы. И своего не отдадим.
В многослойном (хочется сказать: блинчатом) пироге «петербургского текста» один из первых, едва ли не самых вкусных слоев: тема декораций, а если взять шире – театральности. Еще Астольф де Кюстин, перефразируя известное высказывание итальянца Ф. Альгаротти, называл жителей Петербурга «ордой калмыков, разбивших стан среди декораций античных храмов». Де Кюстину вторит Меттерних: «Россия подобна большой и роскошной театральной декорации, выстроенной в виду Европы; но с нашего места можно увидеть, как работают механизмы за кулисами, и понять, что сработаны они очень скверно». Не в укор уважаемым иностранным авторам – некоторые наши механизмы работают как часы.
Притом что сами часы, часы как таковые, положим, на башне ратуши – в европейской традиции исполняющие роль городского символа, – у нас не прижились. Здесь у нас время отмеряется выстрелами. Советское жахнуло холостым, из шестидюймового калибра. Быть может, в память об этом – холостом, потерянном для страны, семь десятилетий перемогавшемся – времени мы, заслышав полуденный выстрел с бастиона Петропавловки, всякий раз вздрагиваем и нервно вздергиваем рукав.
Петербург – не город, а жизненная стратегия. Стратегия независимости. Другое дело, что каждый из нас доходил до нее своим умом и путем.
Как ни странно это прозвучит, но для меня первым шагом на этом пути стало портновское ремесло. Хотя почему странно? Когда стратегия выбрана правильно, каждое тактическое лыко встает в строку.
А тем более здесь, на петербургских подмостках, где каждому театральному сезону приличествует особый костюм. Осенью это может быть, скажем, прямое с подкладными плечами пальто, дополненное шляпой, с моей точки зрения, предпочтительно мужской. Мне было лет двадцать пять, когда я, как иные кошку или собаку, завела себе коричневую, фетровую, с легкой вмятиной на тулье.
Зимой наши шляпы живут в шкафу. (На свет являются толстые шапки и шарфы крупной вязки – от здешних, с Финского залива, ветров мелкая вязка не спасает. Но в этом есть и преимущество: толстую крученую шерсть вязать легко.) Проведя долгие зимние месяцы на верхней полке, наши шляпы запылятся. Хуже того – их побьет моль. В старых ленинградских шкафах ей, прожорливой, раздолье. Стоит зазеваться, не проложить мешочками с лавандой, она уж тут как тут.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу