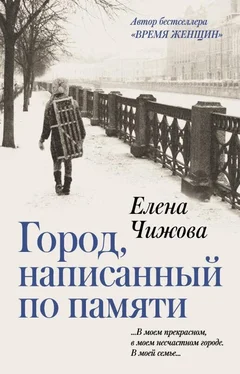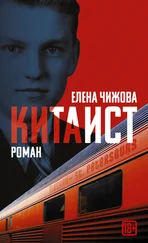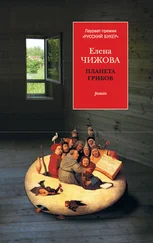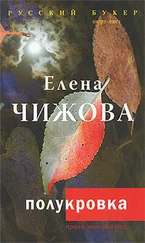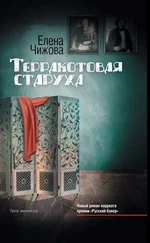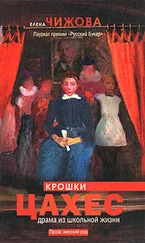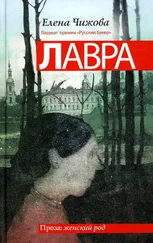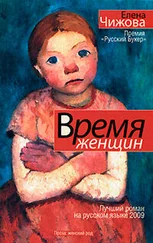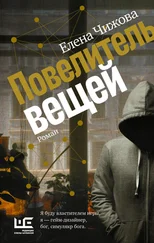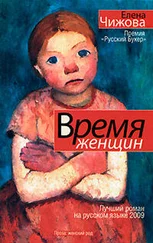Но и закрыв глаза на эти житейские оговорки (которые я пускаю в ход, лишь бы до некоторой степени смягчить, а то и заретушировать грани «эволюционного», как было заявлено, противостояния) – я не стану утверждать, что, вспоминая ту, полудетскую, историю, не рисую по ее левкасу куда более поздней темперой, замешанной на моих взрослых наблюдениях. В конце концов, он был всего лишь недалеким парнем, которому просто не приходило в голову, что здесь, в Ленинграде, за слово можно и схлопотать. Причем не словом, а делом.
Пусть так. Но все равно эта история важна. И, полагаю, не только для меня.
Нет, не о спасении. Я – о том, что в решающий момент эти «правильные» девы не пришли на помощь «неправильным»: зная, что земное время кончается, хладнокровно отвернулись, послав их за маслом на базар. Я, родившаяся в городе, в котором все переводится на язык хлеба, думаю: ведь так могла поступить и тетя Настя. Но она, неблагоразумная, сходила и принесла. Муки́. Жизни. Полный до краев стакан.
Теперь, когда мой нынешний возраст перешел границы их жизненных сроков, я задаюсь трудным вопросом: в какой степени мы становимся «повторением» наших предков – их свойств, жестов, привычек, их глаз и формы рук; вплоть до истин, которые они в продолжение жизни выстрадали. А в какой порываем с ними. Обязаны порвать.
Но тогда, в юности, уже переживая внутри себя эту распрю: между тем, что было , и тем, что есть и будет , – я еще не заходила так далеко.
Ближайшая аналогия: стратегия советской власти по выведению своего собственного генетически модифицированного человека, homo soveticus’а – по видимости столь же эффективная, а на деле давшая противоположный, по сути и смыслу, результат.
Чему я несомненно рада. Сохрани Ленинград столичную функцию, тут бы и камня на камне не оставили. Безусловной радости мешают два обстоятельства. Первое: метро – в глубоких (глубже, чем московские) шахтах ленинградцы могли бы прятаться от бомбежек и обстрелов. Другое и главное: блокада. Думая об этом, я, словно воочию, вижу свежие сибирские дивизии, вот они идут, печатая шаг, по Дворцовой площади 7 ноября 1941-го – и дальше, по Невскому проспекту, до линии обороны, чтобы, встав на этом смертельном рубеже, врывшись в мерзлую землю, уже через месяц, 5 декабря (сотни тысяч горожан еще не умерли, они живы), перейти в решающее контрнаступление и, начиная с этой минуты, гнать вражеские войска прочь – от ленинградского рубежа.
Кстати, в Петербурге случаются и солнечные дни, хотя жители других городов в этом сомневаются, а москвичи так просто не верят.
Во времена моей юности это понятие было оценочным: одеваться – означало не вообще, например, утром, собираясь в школу, а хорошо . Не столько дорого, сколько красиво и со вкусом. Дорогим оно станет позже, когда в жизнь советских людей войдут сертификаты (эвфемизм иностранной валюты), магазины «Березка» и прочие закутки и «галереи», где все продавалось-покупалось втридорога. Как тогда говорили: с рук.
Через мои руки их прошло немало. Были и те, что я перепечатывала собственноручно. В восьмидесятых, понимая, чем это может мне грозить, я радовалась, что освоила портновское ремесло: если все-таки посадят, буду обшивать жен тюремщиков – и тем спасусь.
В фабричных условиях это более-менее понятно: премии-то начислялись не за точность заявленных на ярлычке параметров – покупатель, не будь дурак, примерит, – а за более важные достижения, вроде фактической экономии расхода ткани по сравнению с плановой. А если учесть, что выбор тканей и фасонов осуществляли те же самые, упомянутые выше, методисты, неудивительно, что горожанки фабричных изделий не носили. Во всяком случае, те из нас, кто следили за модой и хотели выглядеть прилично . Советская легкая промышленность обшивала в основном «провинциальных дам». Не знаю, как там все остальные «разрывы между городом и деревней» (о преодолении которых советская власть трындела до последнего предсмертного хрипа), этот с годами только ширился. В семидесятых он уже походил на пропасть. Те, кто это носили, словно застряли в шестидесятых.
Гражданская несвобода задевала моего отца самым непосредственным образом. На все письма-приглашения, приходившие по его инженерскую душу, васильковые тульи Первого отдела, курирующие профильное министерство, отвечали вежливым отказом: дескать, мы страшно сожалеем, но господин главный инженер занят, прямо ни минутки свободного времени, чтобы посетить, как ее там, ах да, Японию (варианты незакрытых карточек: Германия, Англия, Китай).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу