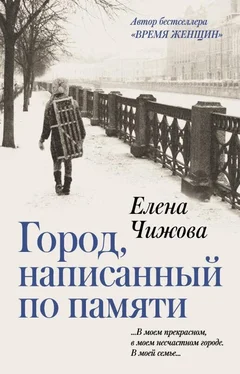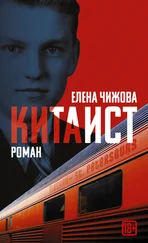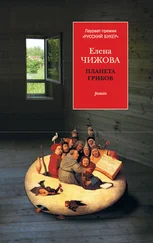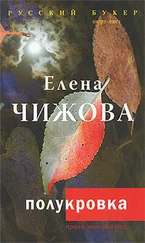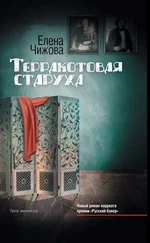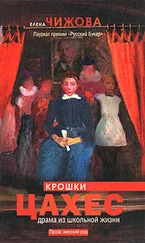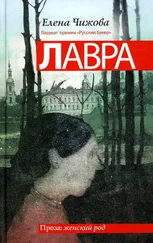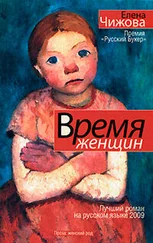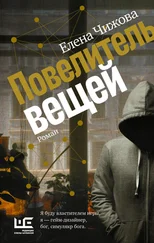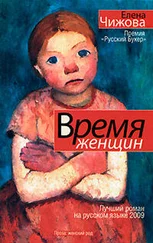Бабушка морщит губы – не то плачет, не то усмехается:
– Не плачь. Ты же большая девочка. Твой народ – ленинградцы.
– Все? И Марфушка? – Пусть она решает, это же ее комната, как решит, так и будет.
Но бабушка молчит.
Из этого одностороннего диалога можно заключить: о блокаде на Урале слышали, но что в действительности происходит в Ленинграде, этого местные не знают. Для них все эвакуированные – что ленинградцы, что москвичи – на одно лицо. Но в этом их трудно винить. Масштабы ленинградского бедствия власти тщательно скрывают, напирая на героизм: дескать, город живет, сражается…
Чтобы вернуться в Ленинград, требуется специальное разрешение. В стандартном запросе следует указать имя, состав семьи, профессию, причину, по которой необходим въезд («Мечтаю вернуться в родной и любимый город» уважительной не считается), и довоенный адрес. Но главное – обеспеченность жильем. Для многих ленинградцев этот пункт стал камнем преткновения: без комнаты, куда можно прописаться, ни карточек, ни работы не дают. Прописаться, в принципе, возможно: если дом не разбомбило, если комната не занята другими жильцами. Чтобы их выселить, необходимо решение суда. Но в том-то и дело, что преимущественное право на жилплощадь имеют те, кто не эвакуировался . За ними – военнослужащие. Реэвакуанты в этой очереди третьи. «Уехали – сами виноваты!» «Отцам города» ни к чему лишние свидетели. Городское начальство предусмотрительно заметает следы.
Как же быстро они, которые в своем праве , перенимают мертвые слова…
Ленинградский НКВД рисует «страшную» картину. Если верить этим зарисовкам, в январе 1941-го «оппозиционные настроения» овладели девятью процентами ленинградских умов. В последней январской декаде процент «сознательных антисоветчиков» вырос до 20. Ладно бы «настроения» – но внутренние враги действуют. Десятки тайных организаций, словно взяв пример с фашистских пропагандистов, призывают умирающих горожан взять дело спасения в свои руки. «Прекратите сопротивление! Требуйте сдачи города!» – призывы словно списаны с немецких листовок, белыми (цвет униженной мольбы о помиловании) стаями кружащих над Ленинградом. Разве что без «жидов-комиссаров», чьи «морды просят кирпича». Отчеты по карательной линии фиксируют и «многочисленные призывы к бунтам», звучащие в хлебных очередях. Кажется, еще чуть-чуть, и стихийная волна народного гнева сметет – как не справившуюся со своими прямыми обязанностями – родную советскую власть.
Дыма без огня не бывает? Остается понять: что в данном случае – огонь. Отдельные призывы? Возможно. Еще вернее, сполохи последнего отчаяния, за которыми – край, голодная апатия, похожая на предсмертный сон.
Но свержение советской власти как осознанная стратегия сотен и тысяч ленинградцев… Мне, полжизни прожившей в СССР, а вторую половину – в постсоветской России, куда проще верится в другое: здоровые мужики призывного возраста отрабатывают свой «хлеб», а главное, бронь. Чтобы удержаться на «теплом» стуле, не загреметь на передовую, следует многократно преувеличить число «врагов и ненадежного элемента»: этой гнилой тактики они придерживались и раньше, в годы тотального террора.
Побочным следствием маминой непререкаемой решимости стало спасение советской фарфоровой промышленности от провинциального прозябания. Отцовскому уму принадлежат кардинальные инженерно-технические решения, позволившие – если не ошибаюсь, уже в конце 1960-х – запустить поточные линии, с которых сходили прозрачные чашечки и блюдца. За костяной фарфор иностранцы охотно расплачивались твердой валютой: он шел на экспорт наряду с нефтью, газом и всякими металлами. Японцы, признанные эксперты по фарфору, только головами качали: и как Семен-сану удалось добиться эдакого качества на таком, уж простите за прямоту, сомнительном сырье.
Порой я задумываюсь о том, что стало бы с моей памятью, если бы меня отдали в детский сад. Или нагрузили бесчисленными кружками , от которых – не то что задуматься – продохнуть некогда. Это кружковое безумие меня не накрыло. На мое счастье, в маминой памяти осталось другое воспитание: тихое и несуетное, полученное от «бывшей» гувернантки, угасшей прежде, чем ее последняя воспитанница осознала, что Анна Дмитриевна успела в нее (а значит, и в меня) вложить.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу