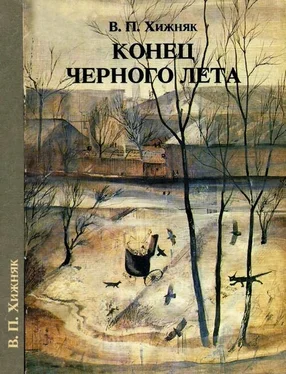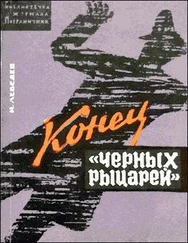Завьялов даже не понял сразу, что эти слова обращены к нему. А когда понял, еще мысленно повторив ее вопрос, лицо у него вспыхнуло, в ногах же появился противный холодок. Но он заставил себя привстать и молча кивнул головой.
— Ну вот, я же и говорю, что правильно. — Нефедова загнула еще один палец на руке, и Федор вдруг подумал, что для дальнейшего перечисления ей не хватит пальцев на руках. И улыбнулся, уже облегченно, от этой мысли. «Как здесь все хорошо идет, справедливо, и мало кто боится говорить правду», — подумал он. — «Может, и мне попробовать…» Но та же Нефедова, сидевшая за столом президиума, назвала имя секретаря парторганизации, выступавшего последним. Время собрания подходило к концу. А напоследок несколько минут для заключительного слова попросил Малюгин.
Если бы Федор не был на собрании и кто-нибудь попытался бы ему рассказать об этом выступлении директора, он бы просто не поверил. Куда девался прежний — громкий, уверенный в себе, какой-то размашистый, не терпящий возражений, но и умеющий всегда убедить любого собеседника Малюгин? Сегодня он был неузнаваем. Коротко перечислив все обвинения в свой адрес, он буквально по каждому из них дал ответ быстро и по существу. Федор с удивлением отметил, что на сей раз директор даже не пытался спорить с кем-нибудь, доказывать свое право поступать так, а не иначе, или, как это бывало нередко, высмеивать мнение, противоположное его собственному. Завьялову даже стало немного жаль сегодняшнего директора Сергея Николаевича…
На второй день после собрания уехал в областной центр Василий Захарович — по «тому» делу, как он выразился. Федор ждал и его, и хоть каких-нибудь результатов своего визита в город. Но все оставалось по-прежнему. В совхозе завершались последние осенние работы. «Девица» терпеливо готовилась к зиме…
…И снова что-то не получилось у Василия Захаровича там, в городе. Нельзя было сказать, что он расстроен и недоволен своей поездкой, напротив — Нечаев шутил даже больше обычного, оживленно расспрашивал Федора о новостях, рассказал Дашеньке веселую историю, приключившуюся с ним в большом и почти загадочном для него своими порядками и обилием товаров новом универсаме. (Василий Захарович признался Федору, что за всю жизнь свою лишь два или три раза «крупно» покупал промтовары, а костюмы, ежели для себя, в основном шил. По магазинам ходить не любил и «толку в этом не понимал».) И все же того, главного, зачем он ездил, Нечаев не привез. Но видно было, что надежды на лучшее не теряет, и кое-какие новые сведения у него есть. Федор ни о чем не спрашивал старого учителя и, как он позже понял, правильно делал. Уже на следующий же вечер тот сам подошел к нему и сказал:
— Спасибо, что не задаешь вопросов. Увидишь, скоро мы до истины доберемся.
Так получилось, что этот вечер они, не сговариваясь, посвятили воспоминаниям о том, что пережил каждый из них в трудные для него годы. Для Завьялова они были совсем недавними — только тронь память — и вот они рядом, приземистые, карликовые здания с узкими окнами, вот широкий плац с чахлыми деревцами, огромная столовая с тысячезвонной перекличкой чугуна и алюминия… И серо-черные нестройные ряды людей, большинство из которых хотело взять от жизни многое, ничего не давая взамен.
Для Василия Захаровича прошлое это было отдалено, как если бы он смотрел на него через передние линзы бинокля. Но тоже помнилось многое. Хоть и не так, и не то, что Федору. Внешние приметы жизни, сам быт, каждодневные заботы меньше занимали его. Сам факт пребывания в Баранихе, судьбы окружавших его людей, подобные его судьбе, — вот что тревожило мысль, заставляло ее искать ответа на вопросы непростые, трудные и порой представляющиеся вообще неразрешимыми.
Сначала ему казалось, что так оно и должно быть: наша армия и воины-чекисты, к которым он и сам еще недавно принадлежал, всегда начеку, ни один враг или пособник его не должны быть упущены, их следует уничтожать или строго наказывать, посылая искупать свою вину в суровые места, подобные этому. Конечно, могут случаться во время бескомпромиссной, жесткой борьбы и какие-то частные ошибки, накладки, не все ведь бывает идеально. Но зато каждый, кто против нашего великого дела, будет обезврежен. Именно так думал он тогда. И пусть даже такой «частной ошибкой» станет он сам, ничего от этого не меняется — такова диалектика революционной борьбы, самой жизни, требующей жертв от тех, кто хочет сделать ее по-настоящему счастливой для многих других, для целого общества.
Читать дальше