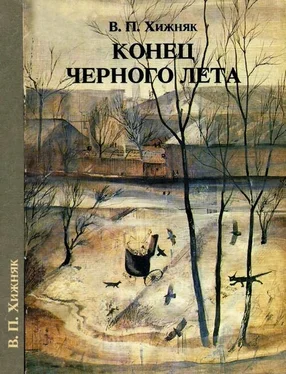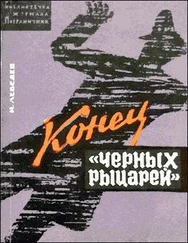— Далече путь держите? — спросил по-былинному Федор у водителей, улыбаясь про себя. Они в это время мирно о чем-то беседовали на скамейке под высоким орехом, попыхивая короткими и тонкими папиросками. Ждали, пока грузчики наполнят машины ящиками. И ответ он получил в том же стиле:
— Отсель, дорогой, не видно будет, — отозвался один из них, тот что сидел ближе к Федору. Другой даже головы не поднял. Федор незаметно переписал номера машин, отойдя в сторону и повернувшись спиной к неразговорчивым водителям. Надежно перепрятав записку, полученную от Дранова, он встал у дверей склада и смотрел на последние приготовления к отъезду. А когда «Колхиды», придя в себя на стоянке, довольно бодро укатили, Федор обошел все помещение склада и в который уже раз подивился тому, что продукция казалась нетронутой и вся на своих местах.
Назавтра в разгар рабочего дня прикатил на новенькой салатного цвета «Волге» Дранов. Он с торжественным видом подошел к Федору и протянул ему небольшой бумажный пакет.
— До бухгалтерии далеко, до нас близко, — он коротко хохотнул, как тогда, при первой встрече в пути, и уже серьезно сказал:
— Это зарплата за второй месяц. Теперь уж она веселей. Хорошо сработаешь — славно заработаешь. А?
Дранов похлопал его по плечу, и через мгновенье салатового цвета «Волга», мягко урча мотором, отъехала от склада.
Федор развернул пакет, пересчитал деньги. Четыреста рублей. За месяц работы. О таком когда-либо он и подумать не мог. Причем за его нынешнюю работу, а разве скажешь, что она должна оплачиваться даже половиной этой суммы? К тому же за первый месяц работы кладовщиком Завьялову заплатили, как и было, по его мнению, положено, чуть больше ста рублей. А теперь… Первые секунды радости сразу же сменились растерянностью, а затем и тревогой. Его явно хотят задобрить, сделать послушным и ничего не видящим. А посмотреть, он уже убедился в этом, здесь есть на что. Одни поздние поездки клиентов с размахом чего стоят… Не говоря уже об этих записочках Дранова и его разговорах о мифической, вероятно, бухгалтерии. Признайся себе в этом, Федор, и реши наконец, что будешь делать дальше.
Но разве так просто решить это? За долгие годы пребывания в колонии далеко не второстепенной чертой его характера стала сдержанность, скорее даже осторожность в оценке поведения и поступков других людей. Не привык и не умел он никого сдавать, выводить на чистую воду или просто жаловаться на кого-то. Но тогда это были скорее чисто мальчишеские принципы, чаще всего соблюдались они по мелочам, нередко из-за свойственного возрасту упрямства и желания быть солидарным с ровесниками. Но сейчас… и взгляды у Завьялова стали другие, исчезло эдакое залихватски-отрицательное и одновременно равнодушное отношение к любым проявлениям человеческой порядочности. Да и ситуация, в которой оказался ныне Федор, требовала, теперь он это хорошо понимал, самого серьезного к себе отношения, как бы проверяла, на что он способен и способен ли вообще на что-либо, выходящее за рамки обывательской мудрости насчет хаты, которая с краю.
С другой стороны, и это Федор тоже хорошо понимал, можно просто ошибиться, неправильно понять другого, в пылу борьбы и неуместных подозрений принять белое за черное. А это уже совсем никуда не годится. Время от времени Завьялову казалось, что с ним играют в какую-то странную игру, испытывая его на прочность и надежность — разумеется, с точки зрения интересов тех, кому эти его качества, проявись они сполна, очень пригодились бы в дальнейшем. Но пока, как бы там ни было, ему самому обязательно нужно что-то предпринять, буквально завтра же — сегодня уже поздно, рабочий день окончен, — обратиться к людям, в служебные обязанности которых входит решать именно такие задачи и с достоверностью определять, что белое, а что черное.
Двери дома ему открыла сияющая Дашенька — ее сегодня приняли в комсомол. Федор поздравил ее, пожал двумя руками ее тоненькую теплую ручку, утонувшую в его ладонях, с его лица не сходила дружеская улыбка. Но Завьялову стало грустно — и оттого, что он не может в полной мере понять и разделить ее радость, и оттого, что ведь и он сам когда-то, очень давно, был комсомольцем, но то короткое время было далеко не лучшим в его жизни. А жаль, очень жаль, теперь он видит, что многое могло бы повернуться тогда по-другому. Конечно, он сам виноват в том, что случилось с ним. Но только ли он? Нет, об этом ему сейчас не хотелось думать. Он еще раз поздравил что-то напевавшую уже Дашеньку и прошел к себе в комнату. Василий Захарович еще не вернулся из школы, в доме стояла никем и ничем не нарушаемая тишина.
Читать дальше