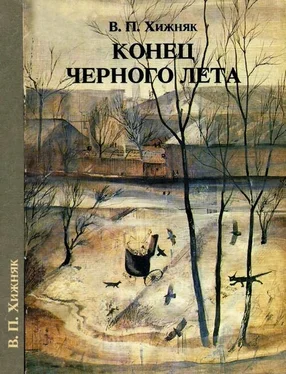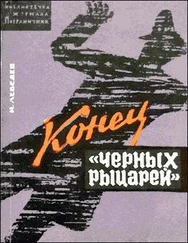— Время-то знаете какое? Все чем-то важным заняты, не до мам теперь…
Какое там еще время? — думает Федор, направляясь к выходу на перрон. — Всегда были заняты, но это не мешало… Вдруг он вспоминает что-то, быстро поворачивается и почти бежит к столу, за которым заполнял телеграфный бланк. Но здесь его — чемодана уже нет, новенького, импортного, с блестящей фурнитурой и широкими ремнями. С подарками. «Неужели, увели?» Он растерянно идет по залу, лицо его горит, ему кажется, что все вокруг только и говорят о нем и о его пропаже.
— Опишите чемодан и его содержимое, — сказал ему дежурный транспортного отдела милиции, куда обратился за помощью. «Моя милиция меня бережет. Стерегли меня много лет. Может, теперь и помогут». Завьялов даже улыбнулся этой своей мысли. Вот он и пришел к «ментам», с просьбой и надеждой, как до него приходили к ним тысячи и тысячи людей, причем, как правило, не зря приходили. И называли своих помощников и защитников совсем по-другому, горячо благодаря за самоотверженную и честную службу. Вот он и надеется на лучшее, иначе зачем бы обращаться…
— Вам придется задержаться на сутки, — с каким-то внутренним сожалением сказал ему дежурный отдела. И это понравилось Федору. Как и то, что ему тут же предложили помощь в переоформлении билета и устройстве на ночлег. Он мысленно уже несколько раз поблагодарил предупредительного милиционера, хотя внешне вел себя сдержанно. «Даже если не найдете, все равно спасибо», думал Федор, направляясь к привокзальной гостинице, куда только что позвонил дежурный.
А рано утром, разбуженный звонкой телефонной трелью, Федор вскочил с постели и услышал в трубке:
— Товарищ Завьялов? (Как он отвык от этого чудесного слова!) Срочно явитесь в транспортный отдел милиции для опознания чемодана и вещей.
Благодарить было уже поздно: высокие короткие гудки наполнили небольшую гостиничную комнату. Через несколько минут он выбежал на улицу и вскоре уже входил в кабинет дежурного, где увидел немолодого мужчину в штатской одежде и совсем еще юного паренька в затасканных джинсах и серой бумажной рубахе, сшитой, как сначала показалось Федору, из газетных вырезок. Он с любопытством и с изрядной долей презрения смотрел на Завьялова. А перед дежурным лежал на столе импортный новенький чемодан с блестящей фурнитурой и широкими ремнями. «И кажется, еще с подарками», неожиданно для себя подумал Федор.
— Так какие же у вас были вещи? — спросил у него дежурный. Но глаза Федора остановились на пареньке.
— Зачем ты это сделал?
— Иди ты… стукало дерьмовое.
— Это я стукало? Ах ты, волчара. Я семь лет оттянул, матери подарки вез… Крыса ты паршивая! — задыхался от гнева и обиды Федор. — Да я таких…
— Спокойно, гражданин Завьялов. Прошу опознать свои вещи…
…И вот он дома. Его сад. Его красавица-черешня, посаженная дедом. Его комната. Его мама. Валентина Никитична не плакала, встретив Федора, только порой мелко вздрагивали в бесслезном и неслышимом рыдании ее плечи, укутанные старым большим платком. Они говорили день, говорили ночь, иногда даже смеялись над чем-то. Но Федор хорошо видел, как трудно дались его матери годы разлуки, сотни бессонных ночей и тревожных дней одиночества. Но она, все правильно понимая своим материнским сердцем, одобрила его намерение пожить пока вдали от всех, в тишине и покое, а затем уже вернуться домой или поехать еще куда-нибудь — в большой мир. Договорились, что после того, как Федор обживется, попривыкнет на новом месте, она сразу же к нему приедет, и они будут жить вместе, не разлучаясь больше никогда. Это будет, может, совсем скоро, через месяц-другой… А пока она со своей старой подругой Аннушкой, которая не покидала ее все эти годы, поможет Феденьке собраться в дорогу. «Береги себя, сынок, ты у меня один».
И снова Москва, вокзалы, непривычное и кажущееся бесцельным, сумбурным, людское движение. Поезд «Рица» отходит от перрона. Ночь. Но и ночью Завьялов, стоя у дверного окна в тамбуре, скорее угадывает, чем видит перелески, поля, мелкие болотца, черные леса, все это разностилье природы, проносящееся мимо в темноте ночи. И лишь слабый светлый контур вагонных окон все время перед глазами, пляшет по земным откосам, причудливо изламывается на густом подлеске, мелко дрожит, но не тонет в свинцовой речной воде. И еще ночь, и короткий сон, и уже дневное бдение в тамбуре — непривычно Завьялову сидеть лицом к лицу с незнакомыми людьми и обязательно при этом что-то говорить. Непривычно еще, тем более в узком купе: никуда ведь не спрячешься. Так, стоя в тамбуре, он и прибыл на станцию Сестрорецкая, умаявшись за день и от вынужденного безделья, и от разных своих мыслей.
Читать дальше