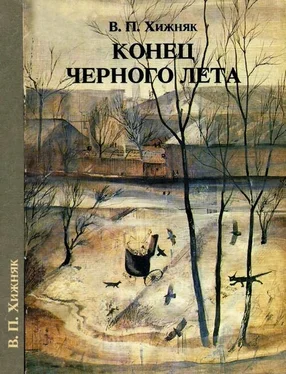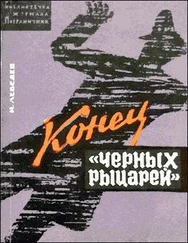Уже через час он был в объятиях Евгения Петровича и Елочки (как он называл мысленно Юлию в последнее время). Дальский бросился к нему навстречу, обнял и долго тряс за плечи, плакал и смеялся, и только междометия и возгласы: «Поседел! Лицо не тронул огонь!» — прорывались сквозь его смех и слезы. А Юлия стояла чуть в стороне и еле сдерживала себя, чтобы не подойти и не обнять этого человека, который и для нее был уже дорог. Федор подошел к ней сам. Взял за руки и посмотрел в глаза, затем осторожно приблизился к ним губами и несколько раз нежно поцеловал.
— Как хорошо, что твое лицо огонь не тронул… — прошептала она.
— Лицо-то нет, а вообще огонек неплохо по мне порезвился.
Теперь они уже оба улыбались, напряженность первых минут прошла.
Им разрешили встретиться и поговорить в отдельной служебной комнатенке, а не через стеклянную перегородку да еще по телефону, как это обычно бывает во время общих свиданий. Дежурный контролер, которому позвонил Иван Захарович, сделал так, чтобы они остались одни, и сам вышел в коридор, бросив с порога:
— В вашем распоряжении три часа.
И, как только он удалился, Евгений Петрович подсел ближе к Завьялову.
— Федор, — начал он, — давай немножко и о деле поговорим. Нужно твое согласие, чтобы возбудить ходатайство о помиловании. Думаю, для этого сейчас самое подходящее время.
— Дорогой мой доктор и колония думает просить о сокращении моего срока…
— Так это же чудесно, Федя! Вот и будем действовать вместе.
Незаметно пролетели эти три часа. Вернулся контролер и подчеркнуто вежливо попросил их заканчивать разговор.
— Мы скоро увидимся, Федор, — Дальский начал подозрительно громко сморкаться и покашливать. — Смотри, держись.
— Продержусь, обязательно продержусь…
* * *
Евгений Петрович Дальский сидел в приемной Президиума Верховного Совета республики, и в который раз мысленно прокручивал все то, что должен был сказать за время предстоящего разговора.
С одной стороны, он, Дальский, конечно, будет говорить о Федоре, просить за него. Это, так сказать, основная миссия, которая и привела его сюда, и от которой он ни в коем случае не откажется, если даже сегодняшний визит его останется без последствий.
Так, это во-первых.
С другой стороны, и это кажется теперь ему не менее важным, он твердо решил высказать или, точнее, одернул себя Дальский, поделиться своими личными наблюдениями, мыслями, выводами, к которым он пришел в период вынужденной изоляции и пребывания в непривычной обстановке.
«Уверен, меня выслушают. Ведь это так важно».
Это был определенно теперь уже не тот, вернее, не совсем тот Дальский, которого привыкли видеть в течение многих и многих лет его близкие, знакомые, друзья. Его волновали и побуждали действовать не только профессиональные интересы, не только теории искусств и отличия одной художественной школы от другой, но и практические вопросы и самые что ни на есть реальные стороны иной школы — самой жизни, с ее отличиями, оттенками, не укладывающимися ни в какие теории. Жизнь и заботы окружающих — вот что теперь стал видеть вокруг себя Дальский, порой проникаясь чужой бедой не меньше, чем своей. И с одной из чужих горестей он пришел сегодня на прием, уверенный, что его поймут, не могут не понять.
Назвали его имя, и Евгений Петрович вошел в кабинет. Уже немолодой плотный человек в безукоризненно сшитом темно-сером костюме предложил ему сесть и несколько секунд молча чуть насупленным внимательным взглядом смотрел на Дальского.
— Прошу изложить вашу просьбу…
Стараясь сдержать свое волнение, Евгений Петрович попросил разрешить ему высказать сначала несколько принципиальных соображений по вопросу, который привел его сюда, и уже потом перейти к частностям, то есть непосредственно к просьбе.
— Поступайте так, как сочтете удобным.
— Я хочу рассказать вам о том, что волнует меня как гражданина и как отца, — Дальский непроизвольно вздохнул и уже более уверенно продолжал:
— Сегодня в исправительно-трудовых учреждениях отбывают наказание тысячи молодых людей. И нашему обществу должно быть небезразлично, в каком виде предстанут эти люди после своего возвращения на свободу… Наблюдал за ними я в камерах предварительного заключения, в следственных изоляторах, и, наконец, в колониях. И, как это ни парадоксально, не замечал печати большого горя на их лицах и не угадывал в них страстного желания вернуться на свободу. Среди этих молодых людей считается непорядочным воспользоваться льготами досрочного освобождения, предусмотренными уголовным законодательством. Разумеется, для тех осужденных, которые и работают честно, и ведут себя прилично. Так вот, ни того, ни другого очень многие, если не сказать больше, молодые правонарушители делать не хотят. Они предпочитают находиться за проволокой «до звонка», лишь бы, например, не вступать в какую-либо колонистскую общественную организацию. И не дай бог в связи с этим надевать время от времени повязку дежурного или выполнять — пусть даже самое пустячное — поручение администрации. Но почему? А чтобы потом на свободе кто-то не обвинил их в измене давно отжившим, но еще бытующим в лагерях и в рассказах старых зеков воровским традициям и обычаям, часто надуманным и преувеличенным, но таинственным и порой по-своему романтическим. Парадоксальность подобных настроений и действий становится тем более очевидной.
Читать дальше