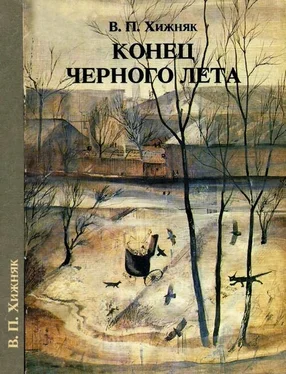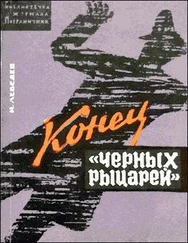— А вы и литературу, наверно, хорошо знаете? — как-то спросил он.
— Я искусствовед и архитектор. При моем Участии создавались многие панорамы и диарамы. А литературу я знаю как рядовой ее почитатель. Правда, может быть, более взыскательный, чем рядовой. Когда я читаю и перечитываю классиков, мне кажется, что и я перерождаюсь, в этот момент хочется быть кристально чистым и светлым.
Евгений Петрович на мгновение задумался.
— Но отложишь книгу в сторону, — сказал он с едва уловимым вздохом, — и продолжаешь заниматься делами земными и решать их не всегда — да, именно не всегда… гладко для себя и для своей семьи. Вот…
Федор понимающе улыбнулся. Он пересел на нары к Дальскому, обнял его за плечи, слегка тряхнул.
— Не надо распускать жидкость, доктор. Все пока идет не худшим образом, вы, кажется, здоровы, а это главное. К тому же жизненные зигзаги нас только закаляют. А меня, Евгений Петрович, интересует не ваше мнение, к примеру, о «Записках охотника» незабвенного Ивана Сергеевича. Я бы хотел узнать, что вы думаете о «Записках серого волка». Надеюсь, читали? Они более соответствуют нашему сегодняшнему положению.
Дальский какое-то время смотрел на Федора, стараясь понять, что же от него требуется.
— А! — наконец-то выдохнул он. — Это ты об Ахто Леви вспомнил? О его «волке»? — Евгений Петрович несколько раз кивнул головой, как бы утверждаясь в своей правоте. — Мне эти записки впервые довелось прочитать сразу же после их выхода в свет. Не скрою, Федор, тогда они произвели на меня сильное, более того ошеломляющее впечатление. Припоминаю предисловие Мариэтты Шагинян. Она рекомендовала читателю эту книгу как самое сильное из того, что было прочитано ею за десять предыдущих лет. Попробуй сказать лучше.
При этих словах Дальский оживился, но затем долго молчал. Казалось, что внутри у этого пожилого человека спорят два противоположных существа.
— Второй раз, — вдруг продолжил свой рассказ Дальский, — мне довелось вернуться к «Запискам», когда я сидел в следственном изоляторе. И что же ты думаешь? Они показались мне пожелтевшими к осени листьями. Да-да. А точнее — запоздалой исповедью человека, у которого не все было в порядке с принципами. А ты знаешь, как тут, — Дальский выразительно посмотрел вокруг, — относятся к таким людям. «Серый волк» вилял, середнячком хотел прожить. Да уж очень редко так получается. А неискушенный читатель все принимает на веру.
— Знаете, доктор, вы сейчас сказали о том, над чем ломал голову и я, — взволнованно произнес Завьялов. — Действительно, восхищаться таким пассажиром может лишь тот, кому не выпали на долю камеры, этапы, зоны…
Дальский смотрел на Федора, слушал его и неотвязно думал о том, что Федор мог быть его сыном и очутиться в подобной ситуации. Прошло совсем немного времени, а он уже успел привязаться к этому крепко сложенному, ясноглазому парню, сохранившему порядочность в условиях, в которых сохранить ее всего труднее.
А Федор продолжал говорить все таким же взволнованным голосом. Вспомнил он и то, как трудно и сложно жилось на «малолетке», как ежедневно приходилось отстаивать свои принципы — пусть и не такие уж высокие и праведные с точки зрения нормального человека со свободы, по все же принципы, что позволяло кем-то быть, а не просто существовать в страхе между молотом и наковальней, приспосабливаясь то к одному, то к другому. Сошлись они во мнении и о том, что «серый волк» был по существу никем, а это — отнюдь не украшение ни героя любого повествования, ни тем более живого, реального человека. И Завьялов тут же поймал себя на мысли, что и у него в последнее время появилось нечто общее с волком. «Ведь ты и сам еще…»
Его мысли были прерваны звяканьем отодвигаемых дверных засовов. В камеру вошел уже знакомый им корпусный. Голос его прозвучал резко, как и положено голосу корпусного.
— Алешин, Рызов, Завьялов, Доценко, Дальский, с вещами на выход.
Федор вскочил с нар.
— Это на этап. Хорошо, что идем вместе. Правда, доктор?
— Правда, Федор. Хоть чему-то можно радоваться в этих стенах. Кто-то сказал, что самое существенное в жизни — это маленькие радости, и тот, кто умеет наслаждаться ими, живет красиво.
Уже через несколько минут их привели в этапный бокс. Они молча заняли свободное место у самого входа и стали ждать очередную команду.
Высокая дверь камеры со скрипом отворилась и, пропустив седого коренастого человека, захлопнулась. Из-под косматых бровей седого смотрели настороженные глаза. На нем были мешковатый костюм, тупоносые туфли и серая кепка.
Читать дальше