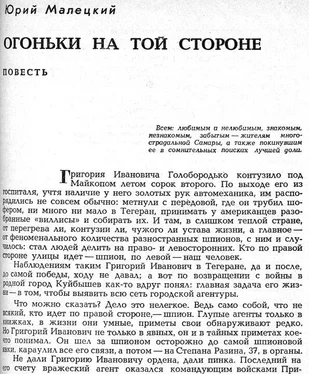Но Григорию Ивановичу было уже не до Толяна. Над ним теперь тяготела мысль об освоении технологии управления душой.
Он стоял с тяжелой стеклянной кружкой, полной настоящего жигулевского пива. Поднимал на свет, смотрел глазами, нюхал носом, пробовал на язык, глотал глоткой. Золотисто-медовое пиво было полно маленьких шариков; иные из них держались у стекла неподвижно, а иные пробирались вверх быстро и извилисто, пытаясь друг друга не задеть. Живая пена, тая, образовывала кружево у стеклянных стенок. Пиво издавало пронзительно-сырой запах речной воды и хмеля. Вкус его соединял обещанные цветом и запахом сладость и горечь; в кровь же входило оно, будто раскрывая поочередно внутренние двери, чтобы организм продуло жгучим сквозняком алкоголя.
Шнобель смотрел на Волгу. Расходясь от точки солнца, убывая к горизонту, небо сияло над серой, стального отлива, огромной рекой. Ленивая сила течения влекла Волгу вниз, к Астрахани, где Голобородько никогда не был.
Он думал: внутри Волги плавают карпы, щуки, чехонь и чебаки. На дне ее окопались раки. Весной ее оккупируют коряги, зимой она держит лед. Она терпит пароходы, и пловцов, и утопленников. Все они не могут обойтись без реки. Но река без них обойдется. Она проживет сама с собой, безо всякого Якова. И не соскучится, вот же ты, ежь твою двадцать.
Осваивая технологию управления душой, Шнобель стал наблюдать за жизнью реки. Он увидел: тихая сила, работящая лень. Еще: равномерность движения. И тусклое золото ночных огней на той стороне черной реки, — последнее словесному обозначению не поддавалось. Григорий Иванович, впрочем, и преследовал цель внесловесную.
Лучшим местом для проверки наблюдений и дальнейшей их разработки оказалась баня. Ранее Голобородько баню терпеть не мог. Его и простой процесс ежедневного умывания удручал крайне, причем даже и не коммунальной своей сиростью — липким холодом кухни, соглядатайством соседей, шлепками мокрой грязи. Все это терпимо. А вот чего терпеть нет мочи: умылся — запачкался, запачкался — умылся. Каждый день, от рожденья до могилы. А смысл? Смысл, екорный бабай?
Шнобель с детства был воспитан в вере в общий смысл жизни — стало быть, и каждой из ее частностей. Необходимость же ежедневного умывания противоречила его вере, превращая жизнь в сказку про белого бычка.
Что после этого сказать о бане, где ненавистное мытье, затягиваясь надолго, становилось трижды ненавистнее? Где стадо мужиков осатанело секло само себя березовыми прутьями, где отвратительно грохотали шайки и лилась по полу мыльная вода с чужого тела. Где мокрый пар цвета рыбьего глаза, ежь твою двадцать.
Но теперь, когда начал он жить для удовольствия, дела и оценивались по степени важности только в связи с количеством удовольствия, которое они приносили. Интересно особенно было перевернуть всю старую схему и извлечь максимум удовольствия из минимума дела. Возвести в дело — безделье. И вот тут-то баня оказалась вдруг — самое то; и Шнобель, отнесясь, наконец, к ней не как к вынужденному средству личной гигиены, а так, как она того заслуживала, открыл в бане целые миры, куда он путешествовал телом и духом.
При помощи только воды и пара — той же воды, заметь, в союзе с огнем — он то терял форму тела вплоть до того, что сказать не мог бы, не знай он заранее, сколько пальцев у него на руке, да и есть ли они, если же есть, то где помещаются, — то вновь находил свое тело, причем в каком-то новом, концентрированном виде (вот, может быть, сравнение: сухой спирт?..). Обретя, наконец, сладкое чувство физической относительности своего существования, он засыпал на скамье в раздевалке и спал без сновидений.
Одним словом, Шнобель провел большую работу над собой и вот — с полным правом стал не только ответственным сараевладельцем, но — душой компании.
Лампочку он занавесил желтым глухим абажуром, чтобы было вроде огонька на той стороне. Стаканы заменил рюмками и с трудом, но ввел в устав пункт — пить не часто, а так, раз в двадцать минут. И стал пробовать заводить такие разговоры — как бы ни о чем, но о приятном, — чтобы люди настраивались на единое слабое дыхание. Есть ли, например, жизнь на других планетах. Или: кто кого заборет, кит или слон?
Плоховато у него это получалось, приемами речи он не владел. Не совсем его поняли. С горечью это увидев, Шнобель кое-как перебивался собственными силами, а сам ждал — не появится ли кто. Единомышленник и плюс к тому речевик-затейник, и притом с добродушным темпераментом.
Читать дальше