— Прости меня? — я выволок на свалку гладкий сундук, с тайной надеждой: может, его все же подберут, возьмут, в хорошую семью? Стол, на котором я лежал после роддома, слава богу, исчез со свалки. Значит, не пропадает, где-то стоит! Может, и сундук пристроится? Хотя — при нынешних комнатах и прихожих — навряд ли. Я торопливо ушел от него.
Как тускло стало без него в прихожей, как не хватало его теплого, золотистого блеска! Назад тащить? Но ведь снова придется потом выкидывать. Так можно сделаться врагом вещи, вызвать тяжелую и неподвижную ненависть ее. Как ни с того ни с сего вдруг возненавидел меня новенький полированный обеденный стол, подаренный нам тещей и тестем. Я то сдвигал его, то раздвигал, то задвигал в угол... так еще хуже! Может быть, это и психоз, но жить с этим мрачным столом в одной квартире я не мог, кто-то из нас ее покинет! Покинул он — но после десятилетий упорной позиционной войны. Для начала мне удалось вытеснить его в прихожую — он теперь стоял, расставив ножки над любимым моим старинным, обитым жестью сундуком... как они ненавидели друг друга — несколько десятилетий! И вот наконец совсем недавняя, никому не известная, но очень важная для моей души победа: тот полированный наглый стол, изготовленный в тюрьме, выкинут. А мой любимый сундук остался. И у него появились друзья. Помню, как я радовался, купив за пять рублей в комиссионном старинный, широкий, цвета меда письменный стол... как осветилась комната! Как он мне напомнил тот гладкий, светящийся сундук — такой же добрый, веселый! Жить стало лучше, жить стало веселее. Теперь есть стол, за которым можно работать, — с этого стола «улетели» многие мои книги! Кстати, много таких «обломков счастья» можно было найти тогда в комиссионках. У нас в России каждая новая жизнь наступает нагло, безапелляционно, вышвыривая все старое, напоминающее о прежнем. Помню, как мы сами, издеваясь над старорежимностью наших любимых бабулек, выкидывали их любимые люстры, с цепями и медными львами, заменяя их модными рогульками! Разруха, разрушение — любимое дело в нашей стране. Гораздо уже позднее, наблюдая иностранных друзей, восседающих в уютных прадедовских креслах, более того — в обжитых еще прадедами домах, понимал, что столь увлекательный динамизм нашей жизни чрезмерен и разрушителен... но как удержаться от этого? Каждое новое поколение в России стремится сделать все по-новому. Лишь так оно может самоутвердиться, пусть даже в качестве Герострата.
Вслед за уютным столом у меня появилось такое же кресло... Возвращается жизнь! Как сказал поэт: «Жизнь вернулась так же беспричинно, как когда-то странно прервалась».
Впрочем, совсем счастливая жизнь образоваться здесь не могла — в этих квартирах, в этих домах, на этих просторах, запроектированных для стандарта и убожества, — увы, лишь таким жильем можно охватить сразу многих... Индивидуальные же, нестандартные жилища — удел особых. Но неужели я недостоин его? Вроде бы получалось, что я могу делать нечто нестандартное — писать книги, дружить с гениями, которых в ленинградской жизни восьмидесятых годов образовалось немало. А было ли во мне что-то свое, живое? Видимо, было — раз гении дружили со мной. Какая-то трепетность ощущений сохранилась с детских лет.
Помню, как в первый раз в жизни собираясь за границу — и сразу в Лондон, я долго, волнуясь и переживая, разглядывал в ванной два моих бритвенных помазка — один деревянный, другой пластмассовый. Как же так: один из них выездной, увидит Лондон, пусть даже из окошка, а другой — до конца жизни будет видеть лишь этот кафель? Какая несправедливость! И вдруг — счастливое решение, я даже подпрыгнул от радости: возьму оба! Помазки слава богу, не сундуки, можно взять оба! И в первое же утро я показал моим помазкам Англию через окно, и счастьем наполнилось моя душа: все по-доброму, все хорошо... обоих сделал счастливыми и себя тоже — и не так уж это трудно! Я не только взял мои помазки, но и написал об этом. И многие потом улыбались, читая. Надо лишь стараться сделать хорошо — и будет у тебя счастье и друзья-гении.
И как-то один из них, ночуя после бурной и радостной пьянки на полу (больше было негде), в обнимку с собачкой, наутро сказал:
— А скажи мне: почему ты мучаешься в этой халупе? Ведь ты же талантливый, довольно известный писатель! Ты достоин более интересного жилья!
— Да — но какого же? — смущенно пробормотал я.
В те годы звание гения как бы не связывалось с материальными успехами, было позорно быть «прытче» других — прыткость была уделом приспособленцев-функционеров... хотя и многие новые гении уже начинали любить материальную жизнь. И этот мой друг незадолго до этой нашей встречи решительно переехал в Москву, решительно овладел ею...
Читать дальше
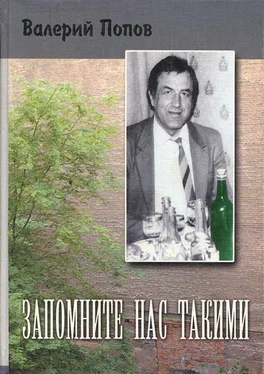

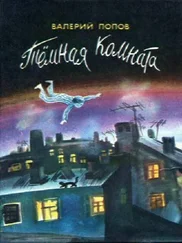
![Валерий Попов - Мой Невский [Прогулка по главному проспекту] [litres]](/books/398128/valerij-popov-moj-nevskij-progulka-po-glavnomu-pr-thumb.webp)
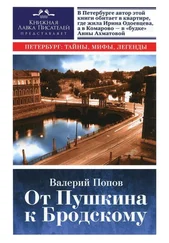
![Валерий Попов - Плясать до смерти [Роман, повесть]](/books/414370/valerij-popov-plyasat-do-smerti-roman-povest-thumb.webp)
![Валерий Попов - Избранные [Повести и рассказы]](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)

![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)
