Помню, как в конце своей длинной узкой комнаты я, волнуясь и трепеща, устраивал тир — композиции из игрушек, грузовиков, медвежат, домиков и кубиков. И затем, отойдя к окну, кидал в них маленьким красно-синим мячиком, разрушая эти композиции и строя новые. За этим странным занятием я проводил часы. Бабушка, которой был поручен досмотр за мной, с одной стороны, радовалась моей постоянной занятости и задумчивости, с другой— это пугало ее: нормальный ли?
Поэтому большой трагедией, которая случилась со мной уже в зрелом вполне возрасте, был наш переезд на новую квартиру, в район новостроек, в царство скуки, однообразной определенности, рационального и унылого стандарта. Чем можно было заполнить эти аккуратные, убогие комнатки? Нечем было их заполнить! Сам их объем отрицал что-то нестандартное, небывалое — только лишь обычное, только лишь как у всех! Я почувствовал, что скоро тут умру. Сюда не удалось взять ни ту батарею-лошадь, возле которой я не только мечтал, но уже и умудрился сорвать первый школьный поцелуй. Сюда было не взять те окна, высокие, полукруглые наверху, с витыми узорами балкончиков и витражами стекол на той стороне Саперного переулка. Пропала жизнь! Если бы я так не прирос душой к старинному Саперному переулку!
А то ведь прирос — и душа осталась там, а здесь — лишь жалкое, стандартное, как у всех, существование! Мы все же привезли сюда старый, еще казанский наш стол. На этот стол меня положили перепеленать, принеся из родильного дома. О, как я помню тот стол — с крышкой радостно-воскового цвета, слегка потрескавшейся, с ножками-тумбами, навинчивающимися широкой, просторной деревянной резьбой. Теперь он оказался на окраинной свалке — он, участник и даже герой самых важных событий нашей жизни. Из Казани его перетащили, а уж тут, в самом городе, не могли оставить его, выкинули — загромождал комнату! Помню, с каким отчаянием я уходил со свалки, боясь обернуться, увидеть его задранные на куче дряни старинные, толстые ноги, вопиющие: «За что? Что я вам сделал плохого?» Все-таки нельзя, наверное, быть связанным с мебелью так душевно? Или — можно? Или даже — нужно?
Что ж — каждому свое. Но, оказавшись среди стандартной, никак не связанной с его душой, чисто функциональной обстановки, человек гаснет.
Я это чувствовал по себе. Из прошлого удалось протащить сюда желтый фанерный цилиндр с крышкой. Что это было? Коробка для шляп? Такая высокая? Непонятно. Цилиндр этот буквально излучал другую жизнь — таинственную, ушедшую, он впитал ее в себя и теперь излучал. И я подолгу, сидя в маленькой тесной кухоньке, смотрел на него, подпитываясь временем и пространством: нет, эта скучная маленькая кухонька — это еще не все, что существует; есть многое другое, за пределами... Теперь, откинув крышку, я вставлял в этот загадочный желтый цилиндр горшок с цветами — вставлял, чуть отдалялся... вынимал один горшок, вставлял другой... Нет — с этим хуже, с первым лучше.
— Опять за свое? — усмехается жена.
Но пока я не расставлю все вокруг так, как хочет душа, я не сажусь за работу и даже за обед.
— Ну хватит тебе все переставлять... суп стынет! — ворчит жена.
Ну что ж — пускай суп, лишь бы не остыла душа, лишь бы не перестала восхищаться (или возмущаться) окружающим пространством.
Три раза в день я гулял по этим пустым улицам среди одинаковых домов, под одинаковыми окнами, с песиком Рикки, кудрявым, веселым пудельком. Единственное, что удалось здесь завести нестандартное и живое, эту собачку. И многие жители, чувствуя здешнюю пустоту, завели собачек — хоть они как-то разнообразят, оживляют просторы!
Следя за радостно убегающим вдаль песиком, я поглядывал в окна первого этажа, и отчаяние охватывало меня. Господи, до чего же наши люди не любят себя, свою единственную жизнь, свою единственную квартиру! Так скучно, тесно, неудобно обставиться: полкомнаты занял огромный безликий шкаф, вторую половину — блеклый раскидной диван. Тоской веяло от этой мебели, тоской и отчаянием. Мебель, как и любое изделие, впитывает жизнь человека, его сделавшего... и какую унылость, безнадежность впитала в себя эта мебель. Не случайно, как выяснялось, много этой мебели делали в тюрьмах, в лагерях... или на фабриках, похожих на тюрьмы. Вот какая жизнь была запечатана в этих фанерных коробках! Жить среди них было самоубийственно — но многие покорно и даже самодовольно жили: все как у людей — унылая мебель, унылая жизнь!
Ну, а ты-то, умный, чем лучше? Все только в голове, в жизни же — никаких отличий. Разве что хватает сил не покупать эти фанерные гробы. Но чем заполнить пустыню новой твоей жизни? Кроме таинственного цилиндра, от прежней казанской жизни осталось два сундука: один гладкий, деревянный, другой — обитый полосками голубой жести крест-накрест. Помню, как бабушка доставала, после долгих моих уговоров, предметы из этих сундуков... Где теперь они? На какой свалке? Как жалко, когда кончается жизнь людей, а потом и жизнь вещей, оставшихся от погасшей, но еще тускло мерцающей за горизонтом жизни. Теперь мне из двух сундуков предстояло оставить один. Чудовищная несправедливость любого из принятых решений убивала меня: почему один из них будет продолжать жизнь с любимыми людьми (неужто есть любовь предметов к людям? А может, и есть!), а другой будет выкинут и с этого дня не увидит нашей жизни никогда? Какой из них смертельно обидеть? Лучше бы никакой. Но вдвоем они делали куцую прихожую абсолютно непроходимой. Ну нельзя же так волноваться из-за вещей! Можно! Я думаю так: кто не волнуется, глядя на вещи, не волнуется вообще никогда, а лишь имитирует, притворяется... чувства начинаются с вещей!
Читать дальше
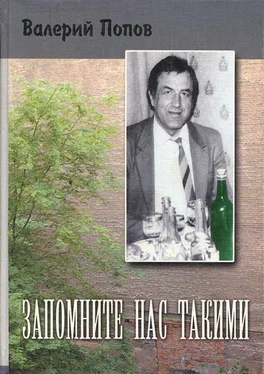

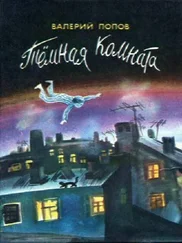
![Валерий Попов - Мой Невский [Прогулка по главному проспекту] [litres]](/books/398128/valerij-popov-moj-nevskij-progulka-po-glavnomu-pr-thumb.webp)
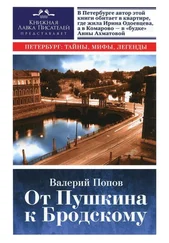
![Валерий Попов - Плясать до смерти [Роман, повесть]](/books/414370/valerij-popov-plyasat-do-smerti-roman-povest-thumb.webp)
![Валерий Попов - Избранные [Повести и рассказы]](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)

![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)
