Брякнул звонок, и друг мой брюхом вперед, бодрый, азартный, чуть не прыгающий, подобно мячику, вошел.
— А... привет! — проговорил я, думая, куда пристроить чашку из дрожащей руки.
— Что значит «а»? — заговорил он напористо. — Ты что же — забыл?
— Просто я неважно себя чувствую. Как я мог забыть?
— Последняя попытка, старик!
...Первую попытку с ним мы предприняли еще в Нью-Йорке, где он служил нашей журналистике, а я пробрался туда окольными путями с сообщением на какую-то конференцию, что-то типа «Огурец в творчестве Достоевского», и сразу же кинулся из Вашингтона в Нью-Йорк, и он, дрожа от нетерпения, встречал меня в аэропорту имени Кеннеди. Дружба крепка тогда, когда вас связывает общая страсть.
— Все позакрывали, старик! — горестно произнес он, только мы уселись в его машину. — Буквально все! На Сорок второй показывают теперь мультики детям!
— Да-а... сколько ты мне о ней рассказывал!
— Ну так это было когда! В первую мою командировку! В восьмидесятом — в восемьдесят первом году.
— У нас как раз был самый застой!
— А у них зато — самый стой! А теперь все позакрывали! СПИД!
Но попытку мы, однако, предприняли — на той же местами сохранившейся Сорок второй.
— Нам много и не надо, — успокаивал я расстроенного хозяина, не способного принять гостя, как он обещал, — наши возможности не безграничны уже, в том числе и финансовые!
И мы очутились в каком-то полуподвале, в пучине порока — впрочем, весьма скромного. Женщина с азиатской внешностью плясала в полутьме возле нашего столика, размахивая грудью, но когда я чисто дружески, поощрительно, дабы выказать восхищение ее хореографией и продемонстрировать заодно присущую мне расовую терпимость, прикоснулся к ее бедру, обмотанному куском переливающейся ткани, тут же из окружавшей нас тьмы стремительно, как черная молния, выскочил молодой негр и звонко шлепнул меня по руке.
— Это как же это понимать? — плаксиво обратился я к другу. — По рукам лупят почем зря! Да у нас в деревне за такое!..
— Тут все рабы закона, старик! Если полиция вдруг узнает о наличии прикосновений здесь, заведение будет тут же закрыто! — произнес он, с одной стороны, с гордостью за такую страну, с другой стороны — с сожалением, что не может принять друга, как мечтал.
— А заведений повеселее у вас нет?
— Есть. Но там я рискую своей репутацией.
— Ну так рискуй!
В заведении на Восьмой авеню прикосновения были разрешены. Но какие? Ужасней прикосновений я не встречал! И для этого я сюда летел, сочинял доклад «Огурец у Достоевского и у Генри Миллера»? Получается так. На словах-то на конференциях они были бойки, а вот в жизни!
За высокой стойкой сидела строгая интеллигентная дама в пенсне, напоминающая кого-то из чеховских героинь, и перед ней стопками лежали жетоны.
— Ну, покупай! — сказал мой друг-провокатор. И я купил. Пока что один. Вдруг мне не понравится. И я угадал. Тут было царство чистых прикосновений, для глаза — ничего, видимо, эти ощущения резко тут разделялись и совмещать их было строго запрещено. Рискну назвать эти прикосновения чистыми — это было именно так. Напротив дамы в фанерной стене были окошечки, похожие на заводские кассы, где выдавали раньше зарплату, — но в эти, наоборот, следовало отдавать. Надо было постучать жетоном, после чего сдвинулась вверх маленькая дверка. И высунулась неопределенного пола рука — я не говорю уже о возрасте, могу только сказать, что ладонь была намного светлее остальной руки. Это радовало. Но не до безумия. И что? Ладонь эту можно трогать?
— Положи жетон, — почему-то шепотом произнес друг. Я сделал это. Рука некоторое время торчала в неподвижности, словно спрашивая: «Что? На один жетон?»
— На один, на один! — проговорил я ворчливо, к тому же по-русски. Если вдруг из этого окошка что-либо волнующее удастся добыть, тогда можно будет поразмышлять и о покупке другого жетона.
— Руку ей дай, — сиплым шепотом подсказал Фома.
Я доверчиво отдал ей свою ладонь, она, схватив мою руку своей клешней (что интересно, не выпуская при этом жетона), утащила меня по локоть в густую мглу, после чего несколько раз ткнула меня ладонью в несколько участков своего тела... необыкновенно разгоряченного, как я заметил. Не температура ли у нее? И сразу стала страстно и темпераментно — тут темперамент ее разыгрался не на шутку — выпихивать мою руку из окошечка. Я не убирал свою руку — не из стремления к наслаждениям, а лишь из противления насилию. Тогда она с силой и злобой опустила сверху крышечку окошечка, этакую миниатюрную гильотину, призванную защищать утвержденные нормативы ее труда. И я взвыл от боли — вот как тут нормативы блюдут! Кстати, такое же было во всех окошечках — скрип гильотины и вой раздавались повсюду.
Читать дальше
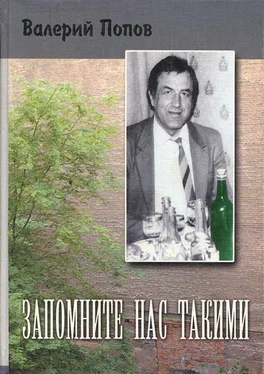

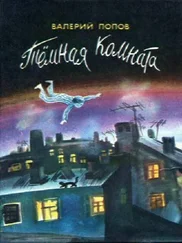
![Валерий Попов - Мой Невский [Прогулка по главному проспекту] [litres]](/books/398128/valerij-popov-moj-nevskij-progulka-po-glavnomu-pr-thumb.webp)
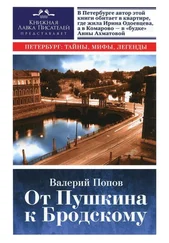
![Валерий Попов - Плясать до смерти [Роман, повесть]](/books/414370/valerij-popov-plyasat-do-smerti-roman-povest-thumb.webp)
![Валерий Попов - Избранные [Повести и рассказы]](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)

![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)
