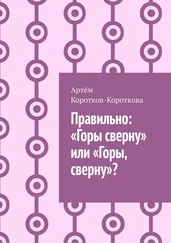— Ну, не знаю, — пожимает плечами Подросток.
Мать продолжает серьезно:
— Нет, плохо я тебя воспитала, Петер. Далек ты от жизни.
— Разве? — пытается он отшутиться. — А кто тебе в два счета только что сготовил ужин? А ну, признавайся! Понравилось или нет?
Мать откидывает голову на спинку стула и, довольно зажмурившись, говорит:
— Ужин был царский! Подросток сияет.
— Ты прелесть, Мамочка! Ты такая, такая милая… как девчонка!
Мать открывает глаза. Он смущенно краснеет, но тут же находится:
— Это я так говорю, на всякий случай — вдруг ты не знаешь!
Она смеется счастливым беззвучным смехом. Лениво вынимает тонкие руки из-под затылка и тянется к Подростку, но коснуться его не успевает.
Телефон, чем-то смахивающий на насекомое, заливается неистовым звоном. Они переглядываются. Подросток собирается встать, но рука Матери останавливает его.
— Сиди спокойно, — говорит она. — Я устала. Да и нет сейчас настроения разговаривать с… чужим человеком.
Телефон трезвонит надрывно, настойчиво, пронзая незримыми стрелами напоенный ароматом чая и картофельным запахом воздух. Он звонит целую вечность и захлебывается так неожиданно, что теперь им становится не по себе от его молчания. Звонок оборвался, нарушив атмосферу домашнего уюта, слитную гармонию человеческих голосов, смеха, позвякивания ножей и чайных ложечек. Все распалось на части: отдельно Мать, отдельно Подросток, отдельно вилки и чайные ложки. Даже запах чая отделился от стойкого запаха картошки, который показался вдруг кислым, низменным, раздражающим. Они с Матерью одновременно тянутся к тарелкам с остатками еды, чтобы составить их на поднос.
К тому времени, как они вернулись из кухни, воздух в гостиной переменился, и ничто уже не напоминает ни о теплых минутах ужина, ни о прервавшем его тревожном звонке. Мать молча, с рассеянным видом ходит по комнате — кругами, точно на привязи.
— Ты у меня славный малый, — говорит она наконец.
— Ты тоже, Мать, мировая.
— Вот и отлично.
— Как будто однажды мы это уже констатировали, — умильно прищуривается Подросток. — Не далее как сегодня вечером.
— И правда, — через силу улыбается Мать. — Но доброе слово не грех и повторить.
— В таком случае… ты просто потрясающая!
Мать невольно обнимает его и чмокает мягкими губами.
— Так подумай насчет вечеринки и скажи, что ты решил, — напоминает она, прежде чем уйти спать.
Подросток, стараясь не шуметь, стелет себе постель и зажигает ночник. Он сидит без движения и прислушивается. В соседней комнате тихо как в склепе — точно Мать заживо погребена там. Она залегла, затаилась, чем-то напуганная, ушла в себя. В последнее время Мать даже дышать боится свободно. Все силы ее уходят на то, чтобы сдерживаться, держать себя в руках. Уж лучше бы кричала на него, как год назад: из-за двоек в табеле, из-за туманных сетований учителей, из-за его возмутительной, непонятной, эгоистической — так она и кричала: эгоистической, — эгоистической пассивности. Она выходила из себя по любому поводу. Обрушилась на смотрителя кладбища, когда с могилы пропал кустик герани, и даже на дядю Дюрку, когда тот пытался оправдывать Подростка. И наверное, Мать была все же права: что за безумие — дарить упрямому мальчишке драгоценные годы в надежде — к тому же весьма иллюзорной, — что он сможет избавиться от своих комплексов. Разве Отцу кто-нибудь делал такие подарки? Разве щадила его жизнь? И хотя год назад вспышки ее гнева Подросток переносил мучительно, теперь они вспоминаются с тоской: в них чувствовалась сила, решимость, упорство — словом, желание выжить. Мать впервые оказалась в ситуации, когда все нужно было решать самой, и она испытывала себя, пробовала силы.
Правда, она и тогда не была совсем одинока. Рядом находился надежный, уверенный человек, на которого — Мать, конечно, догадывалась об этом, не могла не догадываться — она может опереться. В его сочувствии можно было почерпнуть силы, так же как позднее в единомыслии, в общих заботах, в любви. Только Подросток, несамостоятельный и ранимый, не может прибавить ей сил и, наверное, долго еще не сможет. Он еще не встал на ноги. За себя-то не постоит. Сам покоя не знает. Скрывать это от Матери, обольщать ее и любить — вот пока все, что он в силах для нее сделать, не более. И еще работать. Работать он может сколько угодно — это гораздо легче, чем вечно быть под чьей-то опекой. Вот только оставили бы его в покое.
Только бы оставили!
Читать дальше