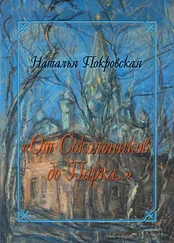— Ни за хер сидел… — срок пропажи в десять лет назывался «червонцем» и считался нормой.
Начальные литературные труды наши баллом «два» учитель не оценивал, а о «тройках» говорил так:
— Тройка» «балл душевного спокойствия», шаткий балл, не устойчивый, с уклоном в подлость. От тройки скатиться в «двойку» усилия не нужны, просто и легко, но чтобы с тройки подняться до «четвёрки» нужно постараться.
— Ошибался учитель: «тройка» лучше «четвёрки», троечка бережёт здоровье школяра, усилий не требует.
Учитель уважал наше творчество и созданные «здания» на вольную тему принимал со вниманием. Чьим-то записям дарил заслуженную похвалу, но и слабые не охаивал:
— Плохо написал… безграмотно… — а чтобы детские умы не ударились в языковый разврат, царящий в нынешней школе жёсткими «двойками» держал учеников в строгости:
— Сделать столько ошибок в диктанте на одну страницу — нужно крепко постараться и забыть всё, чему учил!
Не призывал учитель «пишите, что вздумается, но грамотно!» — перед фантастическим призывом лежала половина века.
В сорок увидел картины абстракционистов, вспомнил наставления учителя и признался: «вот оно, сбылось, оправдываюсь на манер абстракциониста с разницей: если работник красками заявляет «так вижу мир» — мне остаётся сказать «ничего иного о видимом мире сказать не могу».
— И у абстракционистов, и у тебя дефект зрения, такие «произведения» может создавать абсолютно незрячий, или того хуже с «двойным и закрытым переломом мозга со смещением обломков».
— А «что делать», какие пути исправления предложишь?
— «Горбатого могила исправит».
— Чего тогда вселялся?
— «И на старуху бывает пророха».
Малая часть соотечественников убеждена, что «всяк по-своему с ума сходит», и таковое убеждение позволяет оглашать открытия, кои даёт собственное зрение.
Сравнивая себя с художником, применив отечественное, вечное и непобедимое «а, вон, Ванька што делает!?» — заявляю:
— Так слышу мир! — и смело ныряю в поток сознания. Мутный ли поток, прозрачный и чистый решать судьям. Потоки сознания разные по ширине, длине, глубине, скорости и химического состава «воды», изливаемой авторами.
Назначение потока что-то и куда-то нести, но что, куда и по какой нужде не объясняют, рождая законное любопытство:
— Куда, в какой конец и с чем приплыву?
Борьба в одиночку с потоком сознания трудна, но если плавательным средством управляет кормчий, вроде беса — картина иная. О ней и пойдёт речь.
Куда плыть неважно, главное — рассказывать о виденном, слышанном и понятом, а если кто-то в итоге писчих трудов наших порадует званием «дилетанты» — немедля зададим встречный вопрос:
— Звание «дилетант» всё же какое-то признание в мире пишущих, пусть презренное, но и этого много!
Кто и где на сегодня профессионал пера, если стучащие по «клаве» захватили власть? Разве одним профи дозволено видеть мир и объяснять увиденное своими соображениями, а дилетанты под запретом?
— Если зададут вопрос «как пишешь»? — отвечай:
— «Сажусь, задумываюсь, пишу…» — второй чуть лучше: — «Сажусь, задумываюсь… и не пишу…»
— Каков наш?
— «Сажусь и пишу не думая».
Школьные сочинения говорили о незнании излагаемого материала. Что мог написать ученик о войне, находясь в тылу? Правила, как знакомыми словами сносно выразить родившуюся мысль объяснили, и всё же «шедевры» с участием пушкинской Татьяны продолжали являться в свет:
«Татьяна ехала в карете с поднятым задом», «Татьяна любила духи и часто мочилась» — вдоль и поперёк исследованная Татьяна стойко переносила словесные выверты учащихся и не обижалась.
О «пиаре» не знали, а найдись тогда любитель «улучшать и не позволять языку стоять на месте», да озвучи комбинацию двух литер латиницы «P» и «R» — новинку приняли за урезанных педерастов.
Ничего высокого на листах школярских сочинений родиться не могло, литературных гениев в пределах школы не было, и никто из учителей словесности не опасался сочинений на тему «построение коммунистического общества в отдельно взятой стране». Возможно, на то время в какой-либо школе страны советов были «дети индиго», но в той, где обучался великому искусству из слов делать предложения — ни единого.
Волновало учителей равнодушие обучаемых к «задаче построения светлого будущего» — не знаю: учителя никому свои мысли не доверяли, хватало «школьных программ обучения».
Беспроигрышной, не ниже тройки, была тема о «жизни в прекрасной и счастливой стране мира», что было «одним хером и одного размера» со «светлым коммунистическим будущим», но и по этой теме желающих изъясняться не было.
Читать дальше