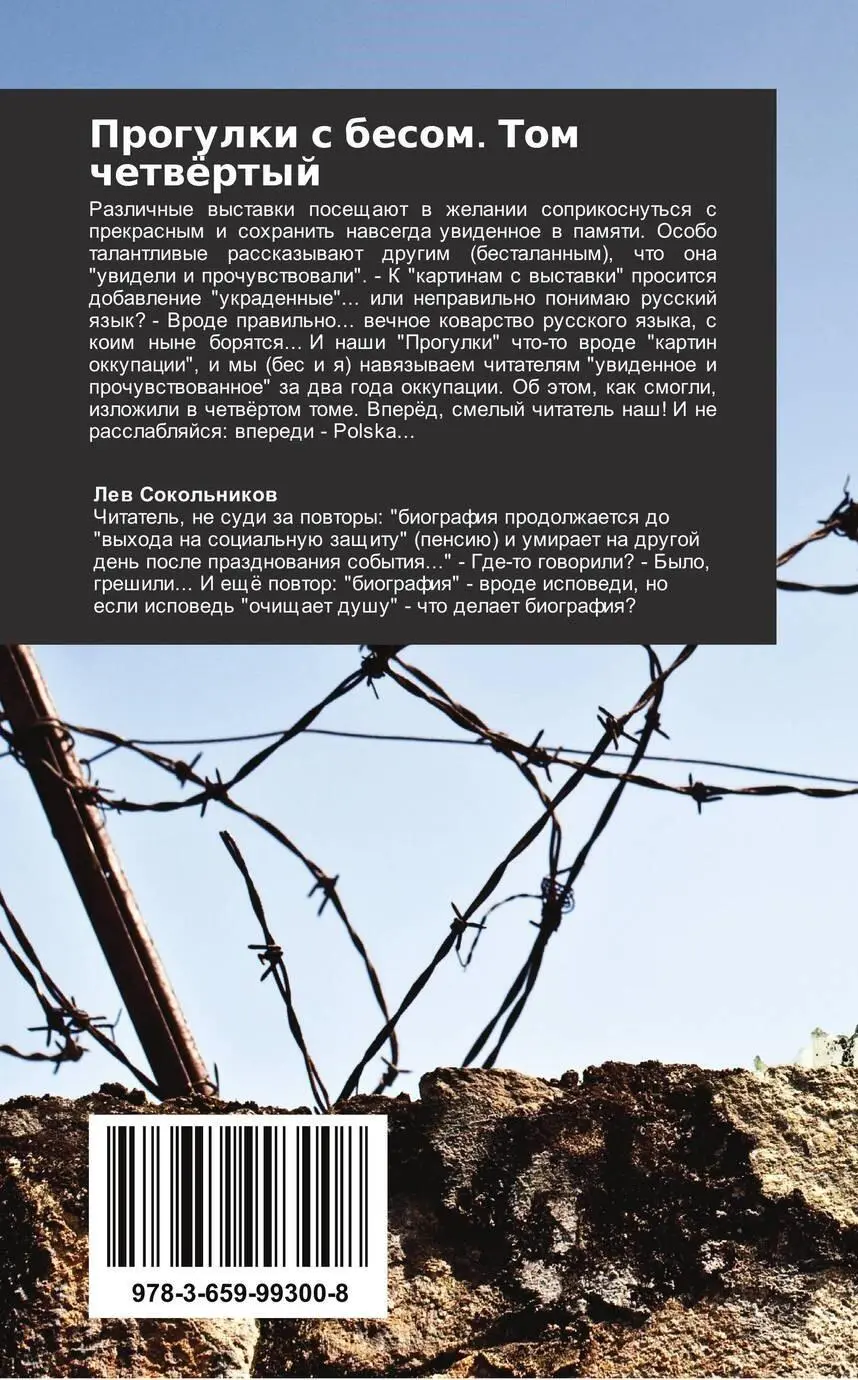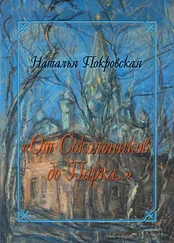— Призвали, зрим: «елда» старое, ныне редко поминаемое звание мужского достоинства приличных размеров. Звание давалось не обладателям морковки в десть сантиметров в буйном состоянии, но как минимум в пятнадцать».
— Готов настучать забытые звания мужских достоинств?
— Готов, хочу знать, кого носил ниже пояса шесть десятков лет.
— Набивай: «детородный орган в десять сантиметров зовётся «щекотунчик-весельчак», пятнадцать «сердцеед», протянувшийся за двадцать сантиметров «душегуб» Что у тебя?
— Забыл помянуть «стойкость» помянутых господ, а при хорошей стойкости и твёрдости характера и «весельчак» может подняться до звания «сердцеед».
Не мог классик выпустить в свет денщика с фамилией Хуилов, или Хуило, как принято у соседей на полдень от нас, ни одно уважаемое издательство того времени не рискнуло выпустить в свет на вечные времена Хуилова:
— Позорище и срамотища!
Как долго настаивал автор на прославлении Хуилова в печати неизвестно, но знаем, что Антон Павлович не сдавался, а в итоге пришли к компромиссу, заменив Хуилова Елдыриным. Названия поменялись, а суть прежняя.
— Совсем, как ваши нынешние партии.
— Партии не трогай, партии благодетели народные, партии пекутся о моём житии!
— Ну, хорошо, хорошо, успокойся, продолжай мысль.
— Как видим классик не избегал соприкосновений с языком народа, чтил оный.
— То классик, а ты кто? «Куда конь с копытом — туда и рак с клешнёй»?
— Добавь «что можно Зевсу — нельзя быку», полный набор будет. Сколько собираешься поражать мудростью слабого знаниями человека?
— Недолго, останавливаемся на сказанном, и величину «с хуеву душу» нигде впредь не помянем. Договорились?
— Договорились, а кто нарушит…
— Договоры заключают, чтобы нарушать.
— Обо мне речь?
— О тебе, догадлив.
— Назови страну, где человеческую душу меряют мужским достоинством? Ни одна закордонная держава не похвалится таким стандартом.
— И низшую степень бедности не выражают «последний хер без соли доедаем»
Читатель, матерное окончание первого тома создано под впечатлением кражи восьмидесяти трёх миллионов дойче марок из «Фонда примирения и прощения» Сумма в отеческом богатстве мизерная, упоминания не достойная, пребывает в разряде «с миру по нитке — бедному на «Москвич».
— Ну, да, «Москвич» за восемьдесят миллионов марок?
— Вопросы «Карточки учёта» помнишь?
— Кое-что…
— Составителю Карточки надо платить?
— Затрудняюсь ответом…
— Вот! А теперь представь, что Карточку варганил не один, а «колектиф» из пяти рыл? Представил?
— Представил… Отечество пережило время, когда «Москвич» был предметом роскоши, ныне авто этой марки говорит о скромных желания прежних граждан страны саветов.
Марки не нашли, не затем брали, чтобы какой-то умник-следак нашёл, марки приходят и уходят, а повод воспеть славу Ивану Семёновичу дороже любых денежных бумажек.
Кладём руки на сборник сочинений поэта и клянёмся:
— Окончание первого тома набивали в трезвом уме и в здравой памяти…
— Добавь: «названные части черепной коробки по отдельности ничего не стоят, но в содружестве могут выдать интересное и новое. Выйдет из строя, к примеру, ум — и нет дуэта, погиб, стоп машина, памяти без ума делать нечего, далее ходу нет…
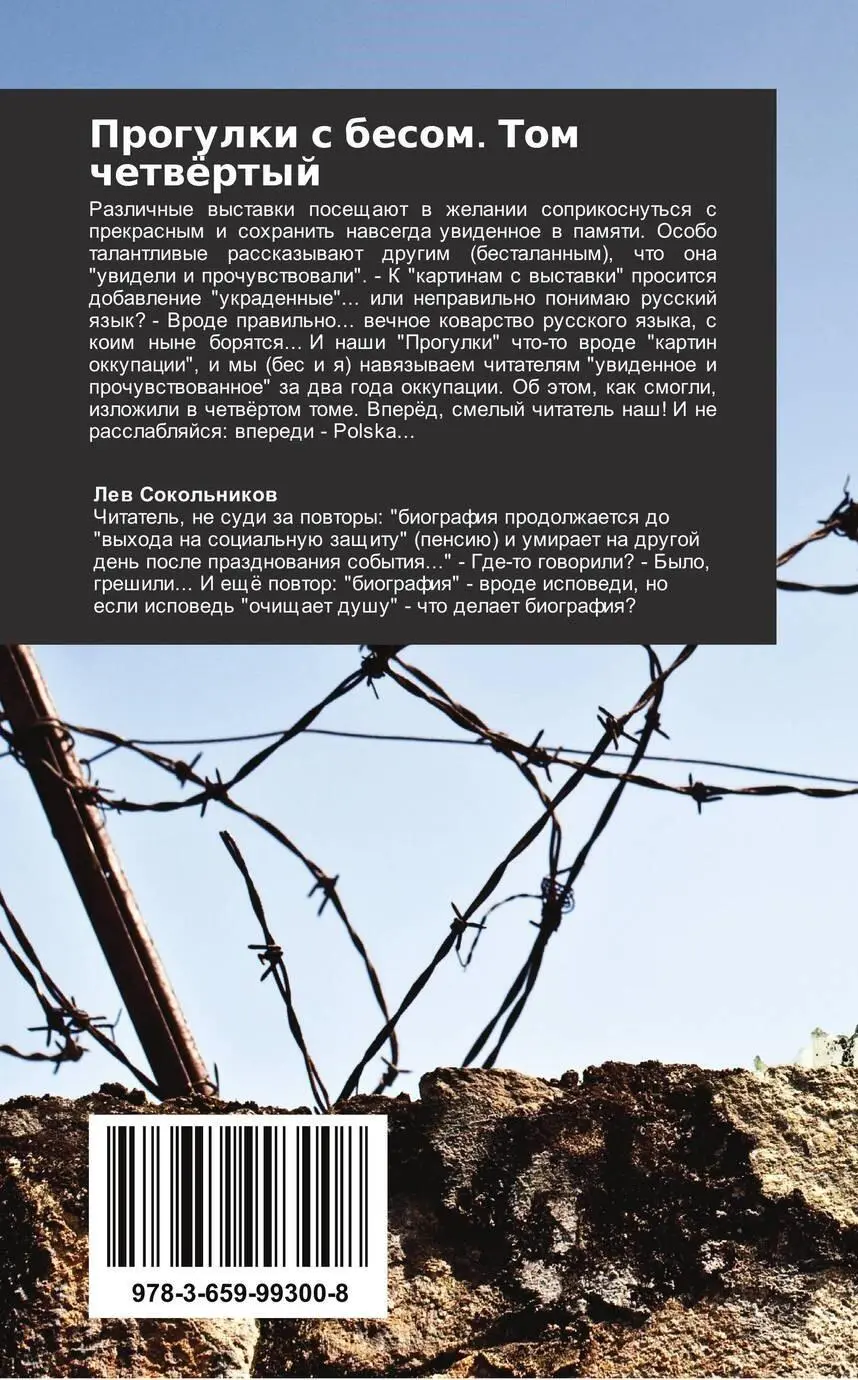
Вроде бы. На самом же деле эта фраза: «Если бы молодость знала, если бы старость могла» (фр.: Sijeunesse savait, si vieillesse pouvait.) из эпиграммы французского писателя и филолога-полиглота Анри Этьена (1531–1598), которая была опубликована в его сборнике «Первые шаги» («Les Premices», 1594), хотя часто пишут, что это французская пословица.