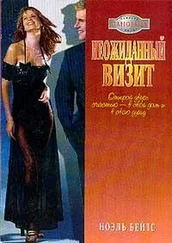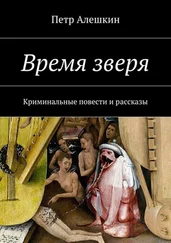В рассказе Кристы Мюллер «Кандида» героиня — семилетняя девочка — не знает, что такое нормальный дом, семья. Ее мать (от лица которой и ведется повествование) — «жертва» своей профессии, она, помощник режиссера, разрывается между ребенком и работой. Маленькая Кандида в неполные семь лет сменила столько домов ребенка, интернатов, что ожесточилась, сердце ее полно недетской горечи. Случайная встреча с отцом, который живет на Западе (ставшая в литературе ГДР традиционной тема «расколотого» неба раскрывается через судьбу ребенка), едва не погубила Кандиду — она бросилась в воды Шпрее, чтобы плыть к отцу, и, если бы не появившийся спаситель в лице пограничника, оказалась бы жертвой взрослого мира и законов его существования.
Итак, ребенок не может, не должен быть один. Но ведь и предоставление самостоятельности более старшим, подросткам, проблематично по своим последствиям. В рассказе Хельги Кёнигсдорф «Неожиданный визит» к героине в гости является некая Бритт — типичная независимая акселератка, во всем поступающая наперекор родителям (которые, впрочем, разведены). Две женщины, старшая и младшая, ведут разговор на равных. Обе достаточно одиноки, обе находятся в некотором разладе и с собою, и с миром — и потому говорят на общем языке. В последней фразе этого рассказа выясняется, что они — мать и дочь. Глядя на Бритт, мать понимает, что та — полная противоположность ей самой в том же возрасте. Более того, именно сейчас она ближе к этой свободной, почти самостоятельной, ищущей натуре, нежели была бы пятнадцать лет тому назад. Но как раз поэтому она с тревогой смотрит в будущее дочери: «Боюсь, что, отправившись на поиски, поймет: они никогда не кончатся».
Об этих и многих других сложнейших проблемах женского бытия написано немало и нашими соотечественниками, что еще раз доказывает их общность и даже необходимость их анализа. Многие высказывания — публицистические и художественные — впрямую соотносятся с тем кругом вопросов, что ставят перед собою и обществом писательницы Германской Демократической Республики.
Не случайно, например, в ГДР с таким интересом были встречены и отмечены критикой книги Светланы Алексиевич «У войны — не женское лицо» и «Последние свидетели. Книга недетских рассказов», героини которых — женщины: бывшие партизанки, подпольщицы, фронтовички и те, чье детство прошло в годы войны. Характерно и то, что размышления советской писательницы о роли женщины в современном обществе во многом совпадают с тем, что пишут ее коллеги в ГДР.
«Эмансипация внесла изменения в психологию женщины, получилось, что химическая реакция в пробирке для нее важнее, чем «реакция», происходящая в ее собственном доме, — говорит С. Алексиевич. — Думаю, что мы все-таки очень грубо восприняли идею эмансипации. Стало уже расхожим присловье, что баба в войну была и за мужика, и за коня. Так вот мне кажется, что иногда нам хочется и сейчас видеть женщину и бабой, и мужиком, и конем одновременно. За все это мы расплачиваемся в детях, а, кстати, нам так же нужно общение с ними, как им с нами…»
Примечательно и то, что сами методы и приемы исследования женских судеб — исследования судеб нашего века — часто оказываются сходными в нашей прозе и в прозе ГДР. Так, известный сборник Макси Вандер «Доброе утро, красавица» (1977), как и упомянутые книги Алексиевич, составлен на основе монологов — подлинных магнитофонных записей, исповедей, непосредственных и достоверных рассказов о себе, которые ведут наши современницы. Можно сравнить творческую манеру Хельги Кёнигсдорф, Марии Зайдеман с рассказами Татьяны Толстой — и возникнут несомненные и значимые параллели.
«Мне кажется, что женщины в искусстве — писательницы, художницы, режиссеры — это все-таки надежда, — говорит Криста Вольф. — Во-первых, может быть, именно им удастся выразить нечто совсем новое, неизвестное: ведь то, что половина человечества была попросту нема, — абсурдно! Во-вторых, новые формы могут создать и иные способы общения друг с другом — не те, что приняты у нас, до сих пор затянутых в корсеты. Я сама хотела бы участвовать в этом процессе. И не просто наравне с мужчиной — а как женщина».
Осознав смысл собственного бытия в творчестве, женщины-писательницы Германской Демократической Республики рассматривают свою литературную деятельность как нравственную и общественную программу. Таковая — считают многие из них — необходима и им самим, и их читательницам, то есть их героиням.
Читать дальше
![Петра Вернер Неожиданный визит [Рассказы и повести писательниц ГДР] обложка книги](/books/414133/petra-verner-neozhidannyj-vizit-rasskazy-i-povesti-cover.webp)
![Владимир Марамзин - Смешнее, чем прежде. Рассказы и повести [Сборник юмористических и сатирических, но в основе бытописательских рассказов.]](/books/39550/vladimir-maramzin-smeshnee-chem-prezhde-rasskazy-i-thumb.webp)
![Вячеслав Шишков - Хреновинка [Шутейные рассказы и повести]](/books/69192/vyacheslav-shishkov-hrenovinka-shutejnye-rasskazy-i-po-thumb.webp)