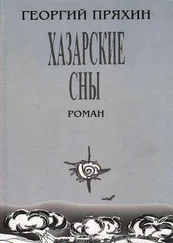Сколько же лет это копилось?
Он и сейчас, в самолете, когда они наконец набрали высоту и теща постепенно успокоилась, замерла под простынями, которыми тщательно укутана, спеленута, опять и опять вспоминал именно этот глухой предутренний осенний час. Стоило только прикрыть глаза и на миг расслабиться. А ведь прошло сколько: ноябрь… декабрь… январь… февраль… март… апрель… май… июнь… прошло без малого восемь месяцев. И чего он только за эти восемь месяцев не видел! У него вообще такое впечатление, что все это время не смыкал глаз.
Он дежурил у тещи по ночам. Днем — жена, а ночью — он. Теперь они с женой сторожили ночью каждый звук. Каждый стон больной. Все поменялось.
А стоны были разные. Было тонкое, почти детское, но непрерывное, ничем не остановимое, ни лекарствами, ни уговорами, поскуливание, на которое и их дети вдруг начинали отзываться среди ночи высокими, смятенными, сонными голосами. Чувствовали родственную, страждущую, обратившуюся в детство душу и отвечали ей. Было громкое, в голос, в крик, рыдание. Блочные городские дома не приспособлены к такому открытому, нутряному, полногласному проявлению боли, сами бог знает из чего слепленные, они и человека, заключенного в них, толкают к эрзац-чувствованиям, делая его вечным рабом «тона», приличий и т. д. Рабом, даже когда так приспичит, проймет, что только в крике, в вопле, истошном, утробном, и можно хоть на мгновение избыть душевную или телесную муку. В такие минуты — да что минуты, часы! — они с женой болезненно прислушивались и к тому, что творилось за чужими стенами. Так и ждали стука или телефонного звонка: мол, что там у вас за безобразие, уймите же, наконец! Но ничего, никто ни разу не стукнул и не позвонил, хотя слышали их, конечно, все шестнадцать этажей… Дом, где свила воронье гнездо беда.
А утром Сергей ехал на работу. Служба есть служба, и надо было держаться за нее и исправлять ее должным образом. И первое, что делал, войдя в кабинет, это запирал его изнутри на ключ, швырял «кейс», а сам, не раздеваясь, плюхался в кресло. Клал руки на стол, укладывая на них голову, и пять — десять минут спал. В отруб! Полный вакуум, ни грез, ни кошмаров.
Солдатиком в воду.
Пока не начинали скрестись в дверь нетерпеливые сотрудники и секретарша не делала нескольких кряду предупредительных звонков: просят соединиться такой-то и такой…
Собственно говоря, спать он начинал еще в машине. Втиснется в черную «Волгу», которая вот уже несколько лет возит его на службу и со службы, захлопнет дверку, поздоровается с шофером, а пока тот ответит, Сергей уже спит. Правая рука держится за ручку над передней дверцей, а голова болтается на плече…
И все же не только поэтому ему кажется, что все эти месяцы не смыкал глаз. Так много он видел — поэтому и мнится, будто глаза его вовсе не закрывались.
Нырянье под воду с открытыми глазами.
Столько всякого он, может быть, не видел давным-давно. Жизнь как раз входила в берега. Когда-то, когда еще работал в Ставрополе, в краевой молодежке, верхом журналистской карьеры казались должность собственного корреспондента какой-нибудь центральной газеты. Не надо строчить в номер, в командировки можно ездить не на два-три дня, а на неделю и даже больше. Почет опять же, машина. Вся страна тебя читает… К ним в редакцию захаживал собкор центральной газеты: поиграть в шахматы. Часами просиживал над доской со все сменяющимися партнерами, в разговорах — преимущественно в жанре совета — был медлителен и вальяжен. Куда ему торопиться? Он и писал не какие-нибудь заметки и корреспонденции, а эк-зер-си-сы. Новый журнализм! Беллетристика факта!
Беллетристика о чабанах, кочующих в беспредельной степи (просто гонят овец на стрижку с Черных земель, с отгонных пастбищ, на центральные усадьбы. По-хорошему надо бы стричь их там, на месте, не мучить овец этими бестолковыми переходами, во время которых они и заболевают, и скидывают в весе, а шерсть загрязняется и падает в сортности, да на Черных землях не хватает рабочих рук).
Беллетристика о секретаре обкома комсомола…
А его сначала послали в большую газету на стажировку. Там он вроде бы показался, и стажировку продлили. Командировали в Казахстан — осветить уборку урожая. Был год жестокой засухи. Газеты отводили «под хлеб» полосы — известно ведь: чем меньше хлеба, тем больше печатают «про хлеб». И он мыкался из совхоза в совхоз, с элеватора на элеватор, с одной железнодорожной станции на другую. Не спал сутками, маялся животом. Забористая североказахстанская осень: грязь, а он в пресловутой «болонье», в которой от плевка не спасешься, да в дырчатых летних сандалиях. Пропылился, прокоптился (пользовался в основном попутным транспортом — как наземным, так и небесным, то есть «кукурузным»), исхудал так, что сам вполне мог сойти за какого-нибудь комбайнера. Героя первой полосы. А что: комсомольская братва с ним особенно не чикалась — в командировочном удостоверении черным по белому отпечатано: «нештатный корреспондент».
Читать дальше

![Георгий Пряхин - Интернат [Повесть]](/books/29922/georgij-pryahin-internat-povest-thumb.webp)