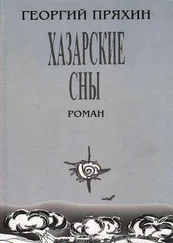Но Абдивали Рузимурадов совсем другой узбек. Особенный. Индивидуальный — достаточно сказать, что он всегда держался особняком. От всех, в том числе и от своих земляков. Он тоже был добродушный, улыбающийся, но — сам по себе. В стороне. Рой, сведенный количественно до одного индивидуума. Доброжелательно обращенный — своей вечной чуть растерянной улыбкой — ко всему, что его окружает, но при этом, даже при улыбке, прочно замкнутый в самом себе.
Ты не забыл его? Вообще-то улыбкой все его общение с окружающим миром и исчерпывалось. Он и слов-то никаких не произносил: только улыбался. Улыбка его — универсальный ответ на все случаи жизни. Старшина Зарецкий влепляет наряд вне очереди за нерасторопность на построении, а рядовой Рузимурадов, вместо того чтобы мигом обдернуться, вытянуться, щелкнуть каблуками (вы щелкали когда-нибудь каблуками кирзовых сапог, в которых только что обслуживали бетономешалку?), козырнуть и бодро — старшина любит, чтобы бодро — выпалить: «Есть наряд вне очереди, товарищ старшина!» — вместо всего этого военный строитель рядовой Рузимурадов долго собирается, вытягивается, переступает с ноги на ногу и застенчиво улыбается.
По-русски он не говорит, потому что не умеет говорить по-русски — разве что улыбаться.
Но впечатление такое, что он и по-узбекски-то не умеет. Перекидывался, конечно, фразой-другой с земляками, но — изредка и, чувствовалось, по незначительным поводам. А так предпочитал уединение. Даже работать — отъединенно от других.
Вряд ли его вполне понимали и сами узбеки. Рузимурадов узбек, но из какой-то очень уж глубокой узбекской глубинки. Высокой. Откуда-то с гор, с самого поднебесья, с отгонных пастбищ, где Абдивали, внук чабана, сын чабана и сам чабан, и провел до этого всю свою пока недлинную жизнь. Там, наверное, и привык к одиночеству. Может, у них в горах и язык-то свой был. Узбекский, но — свой, особенный, просеянный от лишних слов. Слова остались самые необходимые.
И внешне отличался от других. Сам молодой, а в лице есть что-то общее со старой, археологической, из-под бог весть каких напластований бережно, пальцами, извлеченной керамикой. В той обожженности, закалке, когда уже и не поймешь, керамика перед тобой или бронза. Закалка, что качеством неизвестно какому пламени больше обязана — натуральному или огню времени, вечности, мучительному, тяжелому и верному. Глаза, почти лишенные ресниц и потому странно господствующие на лице, и с такими огромными темными зрачками, окруженными столь же темной, отсвечивающе-темной, сросшейся со зрачками радужкой, что кажется, будто и глаза тоже подверглись этому медленному, осторожному обжигу. У Петрова-Водкина есть «Голова мальчика-узбека». Неизвестно, как вся голова, а странные, притягивающие глаза мальчика-узбека принадлежат твоему сослуживцу Абдивали Рузимурадову.
Он темнее, подкопченнее всех других узбеков, хотя в варке клея никогда не участвовал: работал один, несмотря на то что работать одному ему было трудно. И вытягиваться перед старшиной военному строителю рядовому Рузимурадову тоже было трудно. Потому что если есть в тебе всего-навсего метр с кепкой, то тянись не тянись — не прибавится. Он и в работе сторонился всех потому, наверное, что никому не хотел быть в нагрузку. Крепко, не на живую нитку, сшит, ухватист. Маленький, но твердый, ладный, как гладкий лещинный орешек. Что касается роста, то первое время его донимали расспросами: как умудрился попасть в армию? В нем же наверняка нет необходимой «нормы» — полутора метров. Спрашивали и на русском, и на узбекском. Абдивали только смущенно улыбался в ответ. Лишь к исходу первого года он наконец заговорил, научился говорить — сначала по-русски, а потом и по-узбекски. К тому времени все, кажется, и забыли о своем навязчивом вопросе, а он вспомнил о нем. Очнулся. Созрел.
— Барана мало давал, — сказал вдруг однажды во время обеда, когда отделение молча и дружно работало алюминиевыми ложками, вычерпывая ими до дна, а потом еще и вымакивая хлебным мякишем содержимое алюминиевых же чашек. — Барана мало давал, — повторил Абдивали при общей изумленной тишине, ни к кому конкретно не обращаясь. И счастливо засмеялся: то ли оттого, что одолел наконец какой-то внутренний барьер, произнеся не одно слово, как раньше, а целых три подряд, то ли довольный, что в конце концов столь обстоятельно и исчерпывающе ответил на занимавший сослуживцев вопрос.
А вы уже давно забыли свой вопрос и сидели, ничего не понимая. Честно говоря, мы и сами были поражены такой словоохотливостью Рузимурадова. И потом: какие бараны? При чем бараны — когда народ сидит и упорно наминает вегетарианскую солдатскую пищу: гречневую кашу с таком? Уж не спятил ли малый часом? Все недоуменно переглянулись, оторвавшись от святого солдатского дела — вдвойне святого, если ты служишь в строительном батальоне, а не в роте почетного караула. Рузимурадов же, напротив, углубился в чашку. И, только заметив недоуменные взгляды, настороженную тишину — даже алюминий не звякал, — пояснил, опять же с невероятной словоохотливостью:
Читать дальше

![Георгий Пряхин - Интернат [Повесть]](/books/29922/georgij-pryahin-internat-povest-thumb.webp)