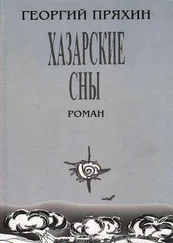Он бы, может, и начал какой-то другой разговор, да сменявшиеся переводчики и переводчицы каждый раз уверенно, привычно толкали его на этот расхожий, никуда не ведущий путь.
На ужин в гостинице Сергей не остался. Там было кому остаться и без него. Но это уже дела не меняло. Не могло изменить. День был вытрачен, выброшен, домой он вернулся злым. Прошел на кухню, потребовал есть. Перед ним поставили ч т о-т о и бутылку кефира. Бывая не в настроении, он все женины блюда не из тех, что когда-то готовила мать — борщ, галушки, лапша, картошка с мясом, опять борщ, лапша, и т. д., — называл этим уничижительным прозвищем: «что-то».
Вот тут-то он и вспомнил о тушеной капусте. Она, кстати, была из разряда тех давних, материнских, основополагающих разносолов. Вот только обещал ли ему кто в действительности или он это выдумал, ляпнул вгорячах, следуя капризу своей гневливой фантазии? Он и сейчас, самому себе, не может ответить на этот вопрос со всей определенностью.
— Какая капуста? Ты что, в ресторане?!
Покажите, пожалуйста, ресторан, где подают тушеную капусту с салом. Чтобы она шкворчала, парила и разносила под праздными размалеванными сводами крестьянский, колхозный, работный дух…
Он отодвинул ч т о-т о от себя, а бутылку с кефиром швырнул на пол. Выматерился, вполголоса, неразборчиво, сквозь зубы, как матерятся или очень злые или шибко интеллигентные, обремененные детьми люди. Звучит это примерно так:
— сство… сство… сство…
Чтоб не разобрал никто из малолетних. Хотя для малолетних, пожалуй, важнее не слова — мало ли что они могут выражать, — а интонация. Она куда определенней и страшнее. Когда в дом входит, вламывается, как тать, эта интонация, малолетние, а их у него трое, печально — слава богу, что не пугливо, — жмутся по углам. Он замечает это, хотя и не может остановиться сразу, хотя подчас э т о, как ни странно, распаляет еще больше, подстегивает, подзуживает. Распаляется, а у самого сердце тоже сжимается, печально и пугливо. У него-то — и пугливо тоже. У него-то оно обременено и другой памятью. В такие минуты он и себя-то слышит маленьким мальчиком. Маленьким, пугливо сжавшимся мальчиком — себя, взрослого, разъяренного, чужого.
Что замышляет в эти мгновения его старший, тринадцатилетний, безотрывно следящий за ним темными, пристальными глазами откуда-то от телевизора?
Даже в те мгновения, а не только позже Сергею бывает стыдно перед ним, особенно перед ним, всевидящим и пока молчаливым, пока г р у п п и р у ю щ и м с я, — Сергей когда-то занимался спортом и знает, что такое сгруппироваться перед броском, но сладить с собой не может. Так глубоко отравлен. Порода…
— сство… сство… сство…
Детей в тот момент, слава богу, на кухне не было (может, случись на кухне Маша, ничего и не стряслось бы?), а жены в отличие от них прекрасно понимают все подобные аббревиатуры. Хлопнув кухонной дверью, Сергей ушел в спальню. Жена осталась на кухне. Одна. Он не знал, что осколком бутылки ей поранило ногу.
Теща, оказывается, весь день лежала в своей комнате. В комнате, которую она делила с Машей.
Помнишь, как ты впервые увидел Муртагина? Была поздняя осень. Вы работали на строительстве жилого офицерского городка в Красных Сосенках. Красные Сосенки — это название района в городке, где располагается штаб инженерно-строительного соединения. Название неофициальное, прилипшее само по себе. История его, рассказывают, такова. Городок старый, даже древний. Центр его, сердце составляет старинная ткацкая фабрика. Точнее, две фабрики: ткацкая и швейная, находящиеся практически под одной крышей: Ну, крыш-то много, потому что здания старые и разбросанные, автономные — мануфактуры ведь не знали конвейера, — а вот изгородь точно одна.
Капитальная, жженого кирпича — уж не в Батыевы ли времена зарождалась у нас легкая промышленность? — крепостная стена, сокрывающая такие же красные, цвета ржавчины, толстостенные, непробиваемые приземистые строения. Здесь и располагаются испокон веку ткацкая фабрика и небольшое швейное производство. По существу — цех при ней. В войну, говорят, выпускали портянки. Вещь и в мирной солдатской жизни, по себе знаешь, незаменимая, а уж на войне, наверное, тем паче: сухие портянки — походный солдатский дом. И греет, и лечит. Можно сказать, мы дошли до Берлина в энских фланелевых портянках. И текстильное, и швейное производство, разумеется, преимущественно женские. Так что фабрика и в этом смысле тоже — сердце Энска. Чувствилище, сотнями, тысячами женских тропок связанное с каждым домом городка. Дома в городе почти все одноэтажные, деревянные, потемневшие от времени и непогоды, что делает его еще более старозаветным. Если и не темное, то уж сонное царство. Сонное женское царство — благодаря производству, благодаря двум длинным, дощатым, довоенного кроя общежитиям и профтехучилищу, которое здесь называют бантохранилищем, хотя никаких бантиков пэтэушницы не носят, предпочитая ничем не взнузданные молодые гривы. Городок и впрямь юбочный.
Читать дальше

![Георгий Пряхин - Интернат [Повесть]](/books/29922/georgij-pryahin-internat-povest-thumb.webp)