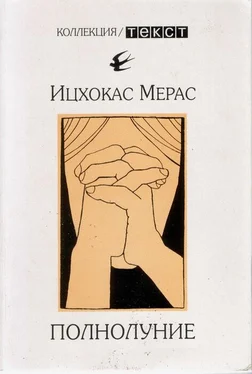Он как чувствовал, что за ним следят, но все равно отпер шкафчик, схватил горбушку, скорей запер шкафчик, сунул ключ на место и юркнул за дверь.
Отец схватил его в коридоре.
Нарочно, что ли, прятался там, дожидаясь, когда он выйдет с краденым хлебом.
Тяжелая рука легла на его шею, и он почувствовал на лице горячее дыхание отца.
— Жри! Ты почему не жрешь? — жарко дышал отец.
Он ежился и молчал.
— Жри!!! — орал отец. — Почему не жрешь?!
Он молчал.
Отец дернул его за шиворот и бросил на пол.
— Кому хлеб таскаешь, говори?
Он молчал.
Отец медленно распустил ремень, широкий, солдатский, взялся посередке, так, чтобы болталась пряжка, и стал бить. Раз пять или десять пряжка со свистом рассекала воздух. И отец все крякал, точно дрова рубил:
— Гхех… гхех…
Он скорчился на полу и даже не пикнул. Отец запыхался, бросил ремень и сел.
— Хлеб воруешь, — сказал он. — Последний кусок из дому тащишь!
Но он молчал.
— Жри теперь. Жри-и-и!
Он посмотрел на сына, валявшегося на полу, и ласковым голосом сказал:
— Ну ешь, прошу тебя…
И улыбнулся.
И тут он увидел отца.
Отец всегда был отцом.
Он никогда не присматривался, как выглядит его отец, не знал, какие волосы у его отца, руки, лицо, улыбка.
Отец просил его есть хлеб и улыбался.
И когда отец улыбался, двигались оттопыренные уши.
Когда отец, сидя рядом с брошенным ремнем, улыбнулся, он увидел, что волосы у отца рыжие, как пламя.
Когда отец улыбался, он такой красивый был, веснушчатый весь, как маленький. Наверно, и улыбка и рот — все было красивое, рыжее.
Он увидел отца, в первый раз увидел его и понял, что надо искать кольцо, обручальное кольцо, которого раньше не было. Он поискал глазами — и нашел.
На левом мизинце отца поблескивало желтое колечко.
Он чуть не охнул, когда подымался с пола, но все же встал на ноги, не застонав. Только сперва подполз к валявшемуся ремню. Взял ремень, а тогда уже встал.
Взялся посередке, так, чтобы болталась пряжка, и взмахнул ремнем. И пряжка свистнула в воздухе.
Она не коснулась отца, да и не этого хотелось ему. Хотелось посмотреть: может быть, отец другого цвета, когда его лицо не улыбается.
Отец вскочил, попятился, вытаращив глаза, и улыбка сбежала с его лица. Но был он все такой же красивый со своими рыжими, как пламя, волосами, весь в веснушках, как маленький. Розовато просвечивали оттопыренные уши, и даже ресницы были желтыми.
И он понял, что слишком долго ждал. Надо было давно уже сделать то, что задумал, когда увидел на девочке теплое платье другой девочки, платье, которое сохранилось, хотя той, другой, больше не было.
Давно пора было делать, как задумал.
И чем скорее он это сделает, тем лучше. Он долго не мог найти свой карман, шарил, шарил, пока нашел. Потом все никак не мог нащупать в кармане горбушку хлеба, цеплял, цеплял ее негнущимися пальцами и все-таки подцепил. Потом было очень трудно вынуть руку из кармана, он вдруг забыл, как это делается — тянуть ли кверху или вниз давить, но кое-как вытащил наконец и, размахнувшись, бросил хлеб к ногам отца.
— Жри-и-и! — сказал он отцу.
Повернулся и ушел.
Отец не двинулся с места. Стоял, большой, красивый и красный, как огонь.
Очень хорошо, что отец не двигался. Ему не пришлось бежать. Он открыл и закрыл за собой одну, потом другую дверь и побрел со двора.
Он отправился в свой проулок. Там, в развалинах, был запрятан набитый хлебом ранец. Он не расстегивал ремешки и ничего не брал оттуда. Он вообще бы не дотронулся до ранца, если б не старик. Он тогда подумал про старика и понял, что горбун обязательно припрется на это место и хапнет ранец. А этого ему совсем не хотелось. Пусть уж лучше крысы жрут или бездомные собаки, лишь бы не старому горбуну досталось.
Он спрятал ранец в развалинах. И теперь пришел посмотреть, на месте ли.
Ему уже было все равно: он мог взять ранец, расстегнуть ремешки и забрать все, что там есть. Теперь он мог все. И очень хорошо, что мог.
В ранце была еда, которая еще как им пригодится. Они уйдут сегодня вечером или ночью, когда будет совсем темно. Проберутся через его лазейку, проникнут сюда, в развалины, он наденет ранец, может быть, они даже поедят перед дорогой, а затем покинут город и уйдут далеко-далеко по лесам, по деревням. Они будут братом и сестрой, и хорошо им будет. Если никто не примет их, тоже не страшно. Летом тепло, можно жить в лесу, в шалаше — так даже лучше! Не пропадут. А совсем уж худо придется, тогда он по миру пойдет:
Читать дальше