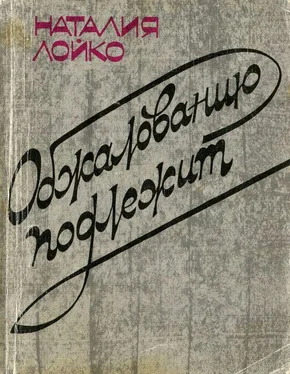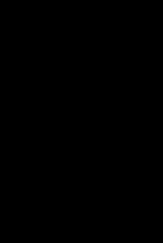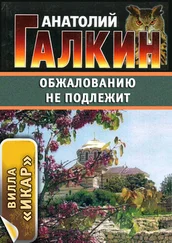Оба поддались минуте, она не жалела, а он, как видно, казнится. Видно, тут же опомнился. Прийти пришел, но какой-то не тот.
Станислав действительно не тот. Известно, чем выше тебя взметнет, тем больнее грохнешься оземь. Ничего не попишешь, утро вечера мудренее. Утренняя почта, вразрез с ночными мечтаниями, заставила опомниться, отрезветь. Дочкино поздравление, как правило, запоздавшее, было длинным: не открытка, а страница из школьной тетрадки, исписанная с обеих сторон. Длинным и невеселым, хоть и начиналось со слов «С праздником, папа!». Совестно стало: после встречи возле «Спортивной» и отъезда своих обратно в Уфу он про этих своих не больно-то вспоминал. Оксана все заслонила, то и дело мерещилась. И молодая, и теперешняя — вовсе не постаревшая!
Вчера, приведенный на вечер в расшикарный ЦДРИ, он бессовестным образом ошалел. Ее присутствие, он готов был поклясться, озаряло и без того сияющий зал; к ней тянулись, овевали свежестью и весной понаставленные всюду растения; светильники все как один стремились хотя бы на миг отразиться в блестящем украшеньице на цепочке, обхватывающей стройную шею. Ту шею, которая помнилась ему истончившейся, хрупкой. Было с Оксаной такое. И в войну. И когда провожал ее в Ленинград.
Опять про Оксану! Будто не расстроен весточкой из Уфы.
В виде укора предстала Женина тонкая шейка, вот-вот готовая надломиться. Перед мысленным взором мелькнули угловатые локти, худые коленки, бледное личико Евгении, его единственной дочери, весь ее хватающий за душу вид.
Дочкина нескладная жизнь тягостней собственной несложившейся. В доме отдыха влюбилась в какого-то там Геннадия, уехала за ним от отца. Там, не подумав, выбрала себе специальность маляра-штукатура, а здоровья-то нет. Работать на стройке оказалось ей не под силу. Могла бы на заводе малярить, но там для нее слишком шумно, всегда ее, слабенькую, влекло к тишине. Занялась текущим ремонтом в каком-то институте — приятно, говорит, сразу видеть результаты работы. Многое обрисовала, когда гостила с Димкой в Москве на каникулах. Сама измотана, Димка вконец расхлябан. Станислав принимал их по наивысшему классу. Развлекал, как только мог, — цирк, театр, елка с подарками. Подбодрил, подкормил, но перемены в их судьбу не внес. Дочка не так чтобы очень уж сетовала, но и врать не смогла. Обрисовала свою ситуацию точно и незлобиво. Геннадия, оставившего ее без всякой подмоги со второклассником на руках, не кляла, не честила. Даже словно оправдывала: Гена всегда был взрослым дитем, кто приласкает, к тому и идет. Сыскалась одна охотница, взялась его по ресторанам таскать. Пригрела, но быстро переметнулась, пустила под откос — выбирайся, миленький, сам.
Свою исповедь Женя закончила так: «Мне жизнь трудна, а Геннадию не мила. Рассуди, кому из нас хуже?»
Будто вопрос в том — кому? Тревожно за Димку, стал неслухом без отца, — основная тема «поздравительного» письма. Пропускает школу, от домашних заданий отлынивает. Мать не ведает отдыха по выходным. Мало ей забот по хозяйству, корпит над уроками вместе с мальчишкой, лишь бы как-то выпутывался, тянул. А он вместо «спасибо» корит: «Ты что, вот папку я бы послушал». Евгения и здесь находит ему оправдание. У Димки не было детства; пока снимали комнату у людей, только и дергала: «Тихо!», «Уймись!». Теперь, когда получили жилье, удержу нет. Все перевертывает, носится как шальной.
Дети есть дети. Сейчас, при званом народе, рассудительная, вроде бы степенная девочка тоже вдруг по-шалому себя повела. Не посчитавшись ни с кем, опрокинула стул, нырнула под стол.
— Кира, ты что? — всполошилась Маша.
— Крышка тычется в ноги, а их тут полно. — Крышка оказалась некой выдающейся черепахой, захваченной по настоянию девочки в гости в Москву. Кира, пошарив среди туфель и полуботинок, высунула из-под скатерти раскрасневшееся лицо. Приподняла черепашку. Крепкий панцирь, беспомощная головка. — Баба Ксана, салата!
— Корми. — Оксана протянула на вилке бледно-зеленый сморщенный лист, усмехнулась. — Без Крышки она никуда.
— Не такая, чтобы своего ребенка бросать! — с достоинством молвила Кира и снова нырнула под стол.
Вернула Станислава к недавним тягостным думам.
К чаю подали крендель. Пышный, румяный, он вольготно расположился на блюде, обведенном двухцветной каймой.
Маша пустила в ход длинный зубчатый нож; крендель, расчлененный на ломти, заблагоухал с удвоенной силой. Предцехкома Валуева Таисия Константиновна, та, что, провожая Оксану на пенсию, выспрашивала «секрет вечной молодости», сейчас затребовала рецепт «фирменной сдобы Пылаевых». Поднеся к кончику носа свежий пухлый кусок, втянув в себя пряный дух, деловито осведомилась:
Читать дальше