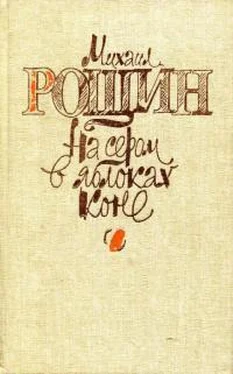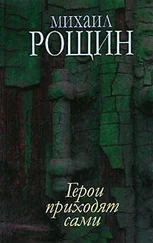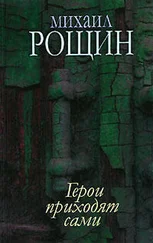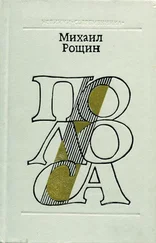— Эй, на пляже, что ли! — вдруг слышится сверху.
Это сосед Витька. Теперь каникулы, и он только и делает, что гоняет голубей, громыхает по железной крыше. Тоня — на ней одни беленькие трусики и лифчик — торопится и, смутясь, грубо кричит Витьке, чтобы ушел. Тот хохочет и свистит ей, как своим голубям. И этот смех и свист тоже злят ее.
Тоня вбегает в дом.
Она одевается, причесывается, видит в зеркале на комоде — зеркало в форме сердца — свое сердитое лицо, и от этого еще больше хмурится. Ей не нравится свое лицо.
В эту зиму и весну, которые тянулись так долго, она совсем истомилась. Так и стоят перед глазами эти пустые вечера, вставание затемно, протяжная теткина зевота, субботние танцы в пахнущем угаром, холодном и скудно освещенном фойе клуба. Под Новый год вышла замуж подруга Аня, совсем стало скучно, и Тоня тоже решила, что надо замуж. Чтоб был свой дом, и быть хозяйкой, и не работать. Нянчиться с ребятишками, и все. А то что же, неужели всю жизнь ей так и бегать с подносами?
Когда Тоня училась, у них в классе была странная девчонка, Сонька Щерба, только и читала книжки. Сядет, бывало, на переменке с ногами на подоконник, запрокинет голову, как какая-нибудь артистка, и скажет: «Ах, девочки! Чего-то такого хочется! Такого! И сама не знаю, чего… С парашютом бы прыгнуть, что ли!» Все стоят, глядят, как дуры, еще и смеются, а ведь правда: прыгнуть бы, что ли, с парашютом.
Никогда раньше Тоня не испытывала такой тоски. Все всегда было просто. Голодна — поешь, устала — спи, хочешь танцевать — танцуй. Смейся, когда смеется, пой, когда поется. А теперь все ей не так, все надоедает, и тянет, и тянет куда-то. И ни есть ей не хочется, ни пить.
— Ты чего это, Антонина? Нездоровится, что ли? — спрашивает тетка, глядя, как нехотя Тоня ест кашу.
— Здоровится.
— Чтой-то ты молчишь все, скушная больно…
— Все и быть веселой? Двадцать лет веселая!
— Двадцать лет! — тетка смеется и качает головой.
— Да ну! — сердито говорит Тоня.
Пора уходить. Стучат ходики. На подоконниках млеет на солнце герань. Фыркает на кухне керогаз. Со двора слышится посвист — Витька взгоняет голубей.
В кафе, где работает Тоня, кроме нее, еще пятеро официанток. Тоня любит только тот утренний час, когда еще пусто, на вымытых полах лежат и будто дымятся белые солнечные лучи, и на всех столиках весело топорщатся бумажные салфетки. Официантки собираются в уголке, за занавеской, и говорят о своих делах — о мужьях, о детях или обсуждают первых посетителей. Каждый день одно и то же. Все друг о друге всё знают: когда у Таисии Яковлевны, старшей официантки, болеет дочь, когда Аня получает письмо от мужа, когда буфетчица Зоя ругается с соседями. Иногда читают вслух газету: фельетон, или «Из зала суда», или как поп отошел от религии. Или обсуждают своих — повара Савву, жену заведующего, Тоню. Тоня работает уже три года, но к ней относятся, как и в первые дни: считают, что человек она случайный, место ее не здесь. Ей и самой так кажется, но ничего не меняется из года в год, и она привыкла. За три года Тоня стала такою же, как они: научилась быть любезной с теми, кто любезен, грубой с теми, кто груб, но женщины все равно не считают ее до конца своей и осуждают за то, что она отдает до копеечки сдачу, носит на работе босоножки, а не тапочки, и не выходит, такая молодая и симпатичная, замуж. Нынешнее томление ее все замечают и пытаются объяснить Тоне причину с той пугающей откровенностью, какая бывает только в женской компании.
— Наденешь, милая, тапочки, наденешь, — предсказывает Таисия Яковлевна. — Родишь одного-двоих, ножки уж не те будут.
— Подумаешь! — фыркает толстая Паша. — Честная тоже! До дверей бежит — пять копеек возьмите! Нужны они им, твои пять копеек. Прямо видеть я этих честных не могу! Вот и коптишься второй год в своем штапельном.
— Чудная ты у нас, Тошка, правда! — присоединяется к общему мнению Аня. — Обратно все офицеры за твои столы, и так уж к тебе и этак, а ты будто не понимаешь.
— Девка! — вздыхает Таисия Яковлевна. — А у хорошей девки, известно, уши золотом завешены.
Тоня привыкла к этим разговорам, но всякий раз не удерживается — сердится, краснеет, грубит. Ей хочется сказать, что дело совсем не в том, о чем они думают, а просто ей скучно и обидно, что как-то пусто проходит жизнь. Хочется чего-то другого, а как и где найти его, она не знает. Она просто ждет, что все изменится. Вдруг, в один день.
Если б у нее спросили, любит ли она свою работу, она бы не ответила. Чего тут любить или не любить? Работа и работа. Она не ленится, не перекладывает свое на других — что же еще? Другие говорят: фи, мол, официантка! Подавальщица. А побегали бы целый день, повертелись, наслушались разного, наугождались бы всякому — тому того, тому сего, то не так, это не так, — натрепали бы нервы, узнали, что такое официантка. Иной раз придешь домой и не знаешь, куда ноги деть, все стараешься положить их повыше, кверху задрать, как какой-нибудь американец.
Читать дальше