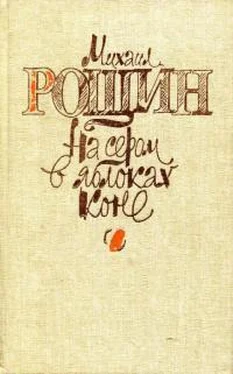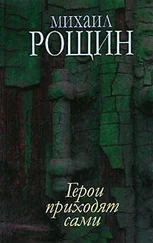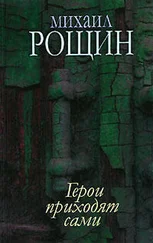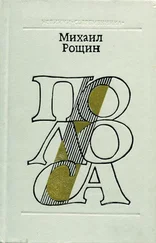— Кклавв, ммместо ессссть?..
А мамка со страху и сказать не знает что. А тут со стороны откуда-то голос:
— А ну не лезь! Вот багром сейчас!
И исчез Удод, будто не было, а через минуту уже на свету, у сходен, явилась мелкая его фигура. Но и оттуда оттерли. А погрузка шла полным ходом. Тот, широкий и белый, не самым главным оказался: самый главный стоял где-то наверху, высоко, и как ни задирала Раиска голову, как ни вывертывала шею, не могла его увидеть, только мелькнул один раз освещенный снизу белый рупор — в этот-то рупор самый главный и командовал сдержанным голосом:
— Веселей! Сейчас будем уходить! Много там еще, Игорь Павлыч?
А Игорем Павлычем назывался как раз тот самый, белый и сонный, только он теперь не был сонным, и белое с себя снял, и фуражку, открыв лысую спереди, загорелую голову, и оделся в синюю форму, какую надевает в школе на уроках учитель физкультуры, и тоже «козу» на спину повесил, бегал, но все-таки следил, сколько мешков несут, командовал, поторапливал. Остроносый в тапочках у входа стоял: грузчики, вступая на палубу, не разгибая спин, только поднимая потные красные лица из-под мешков, кричали: «Боцман, куда?» И остроносый говорил, куда нести, или сам бежал вперед, показывал.
Тут все помогали: свои мешки, не свои — вали давай, потом разберемся! Те арбузники, что раньше ехали и теперь проснулись возле своих мешков, помогали. Два цыгана в пиджаках и длинных рубахах из-под пиджаков, ремешками подпоясанных, тоже помогали (а тощая цыганка, в бусах, серьгах, с босыми грязными ногами из-под длинной юбки, в стороне стояла, ребенка держала, а ребенок, большой уже, черными глазками глядел, а сам рукой у матери за пазухой искал и вынимал на свет длинную, вислую, коричневую грудь, — цыганка, не глядя, по руке его шлепала, запахивалась, а он опять лез). Инвалид, одноногий, на костыле, с круглой остриженной полуседой головой, грязный, мордастый и пьяный, тоже прыгал тут же — помогать, пока не задели его мешком, не осадили на пол. Мамка Клава пошла тоже — со спин снимать, укладывать, перетаскивать.
Вообще-то поздно было, все спали уже на пароходе, главные-то пассажиры, что наверху, и боцман кричал:
— Да тише вы, черти окаянные, что орете-то! Спят люди!
Орали, правда, больше те, что на дебаркадере, у сходен: просили, ругались, канючили; какой-то мужик, застегнувшись, кепку поправив, напустив важности, повторял мальчишке-матросу в берете:
— А я прошу к капитану, и все. С тобой вообще не об чем говорить!
— Да ладно, к капитану! — нахально отвечал мальчишка-матрос и отворачивался.
— Да я один вот иду, и все, нету у меня ничего! — настаивал громче, показывая пустые руки, мужик, чтобы его, наверное, наверху услыхали, где рупор. — К капитану.
Но ему и не отвечали.
А инвалид пьяные слезы по грязному лицу возил.
— С людями как обходятся! — кричал. — С людями! Это что, а?
Леонида нигде видно не было, да и боялась уже его Раиска, боялась попадаться ему, только поглядеть хотела и жалела его теперь, до чего арбузники человека довели.
Тут, в проходе, через который мешки таскали, красивая деревянная лестница начиналась, ступеньки веером вверх шли, а наверху полумрак, покой и тайна, зеркально отблескивали стеклянные двери, и медь начищенная сияла, как золото. На лестнице стояли и глядели на погрузку седая женщина в длинном халате — через руку полотенце толстое, а в руке стакан с зеленой в нем зубной щеткой — и красивый парень, как из кино, с прической городской, в брючках светлых и белой рубашке шерстяной — такая рубашка, что ни у кого у девчат в Умете и кофточек таких нету; у пояса цепочка блестит, а на цепочке еще какая-то штучка, так и переливается то красным, то голубым.
А пониже, под ногами у них, у самого пола, на одну ступеньку задом взобравшись, инвалид пристроился — из-за лаковых балясин свою остриженную, как у солдата, седую голову и грязное лицо выставлял.
А потом из кармана бутылку достал — грязную тоже, захватанную, с желтым — самогон, видно, — туго свернутой тряпочкой заткнутую, стал пить из горлышка, на крутые ступеньки спиной лег, чтобы удобнее.
И вдруг Леонид. Появился. Еще издали его высокий, нервный голос Раиска услышала. Пробивался Леонид сквозь толпу, от последнего Удода отцепился, уже у сходен самых, и сюда прошел, отирая на ходу мокрые щеки и лицо.
— Минуты три еще, не больше, — сказал он боцману и пошел по коридору, куда показывала стрелка со словом «Буфет». Так же слеп он и зол был и, сказав боцману свои слова, еще добавил про арбузников, — так, мол, их! А тут еще чья-то старуха, чужая, не уметовская, стала у него на пути, платочек зубами развязывала второпях, беленький платочек, где, видно, деньги и справки на арбузы, разрешение, кланялась и никак развязать не могла, бормотала:
Читать дальше