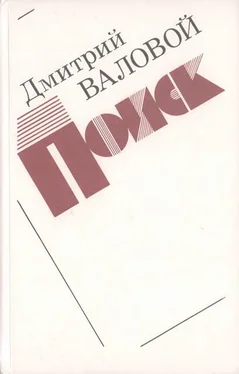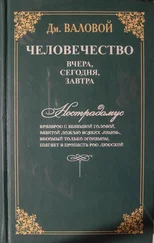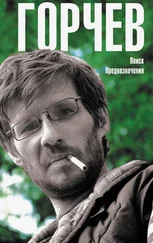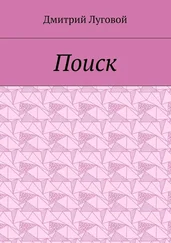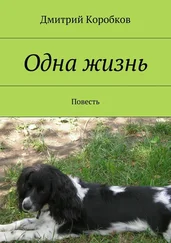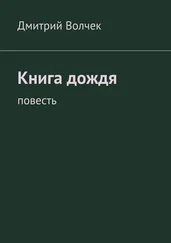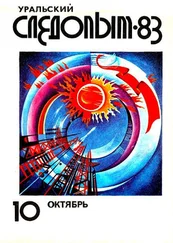Едва войдя в рабочий кабинет Васильева, Татьяна, еще не успев поздороваться, нетерпеливо спросила:
– Ну как?
– Что как? – уточнил Васильев.
– Как мой доклад?
– Доклад у тебя получился серьезный. Чувствуется, что поработала. Но статьи, подобные твоему докладу, наш редактор отдела экономической теории называет «правильной мутятиной».
– Как это понимать?
– Это значит, что статью можно публиковать. В ней все есть и все правильно, но она сложна, и докопаться до ее сути не каждому дано. Даже интересные рассуждения по некоторым вопросам в докладе изложены настолько казенным языком, что пришлось по нескольку раз читать, чтобы понять их.
– Что ты конкретно советуешь?
– В разделе о Законе стоимости, финансах и налоговой политике для иллюстрации и оживления, пожалуй, можно использовать статью Шолохова «Свет и мрак». Приехал я как-то, еще будучи военным, в отпуск к родителям в Белогорск и решил навестить дедушку, жил он в тридцати километрах в деревеньке из полутора десятков хат. Деревня – красотище! Называлась Некрасово, стояла на пригорке, а вокруг – прямо-таки рисованные поля, извилистая речушка Гончарка. У каждого дома – изумительные сады. А тут вышел из машины и поразился: ни одного деревца, все голым голо. Вечером спрашиваю дедушку: где же ваш прекрасный сад? Неужели во время войны на дрова пожгли? «Ты Шолохова читаешь?» – озадачил он меня встречным вопросом. Разумеется, отвечаю. Но какое отношение он имеет к садам в Некрасове? «Кабы ты читал Михаила Александровича, то не спрашивал бы, куда девались сады…» Разворачивает тут дед весьма зачитанную газету и показывает статью Шолохова «Свет и мрак». Откровенно говоря, тогда я ее еще не читал.
– И я не помню этой статьи, – пожала плечами Татьяна.
– Давай-ка откроем восьмой том Шолохова. – Васильев подошел к книжной полке и без труда отыскал нужную книгу. – В вагончике тракторной бригады зашел разговор о преобразовании природы путем посадки лесополос и фруктовых деревьев вдоль дорог. А был среди других в вагончике и дед Трифон. Впрочем, давай отсюда и начнем, с этого эпизода: «Помимо прочего дед Трифон еще и скептик: он выдерживает многозначительную паузу, обводит присутствующих испуганными глазами и зловещим шепотом вопрошает:
– А финотдел?
– Что финотдел? При чем тут финотдел? – в свою очередь спрашивает бригадир и глядит на него изумленными глазами.
Багровея от смеха, тракторист Никонов говорит:
– Тебе бы, дедуня Трифон, только военным министром в Америке быть… Что-то ты на него запохаживаешься, что-то ты вроде заговариваться начинаешь. Ты, случаем, не того?.. Умом не тронулся?
– Кабы тронулся, так давно уж в вашей вагонюшке окна не было бы, и я давно уж без портков, не хуже этого министра, по пахоте бы мотал, как худой щенок по ярмарке. И мы еще поглядим, кто из нас с тобой дурнее и подходящей на министерскую должность в этой Америке, – беззлобно отзывается старик и, повернувшись к бригадиру, запальчиво говорит: – При чем финотдел, спрашиваешь? А при том: в прошлом году вызывают меня в сельсовет, финотделов агент спрашивает: „Сколько, папаша, деревьев в твоем саду?“ А чума их знает, говорю ему, иди сам считай. Он не погордился, пришли комиссией, пересчитали все дерева, финотделов агент и говорит: „Каждое косточковое дерево, ну, слива там или еще какая-нибудь вишня, четыре штуки их считаются за одну сотую платежной земли, а каждое семечковое, яблоня ли, груша, – за одно дерево – одна сотая“. Это, говорю ему, даже уму непостижимо, как у вас получается. С одной стороны, указание, чтобы сады разводили, а с другой – плати за каждое дерево, а мне от этих деревьев пользы, как от козла молока, они ни фига не родят. Я уже прикидываю: не порубить ли часть дерев?»
Васильев вздохнул, захлопнул книгу и, прищурив глаза, всматриваясь в прошлое, произнес:
– Показал мне дедушка эту статью и говорит: «Шолоховский Трифон еще раздумывал, а нам раздумывать было некогда, пошли в свои сады с топорами…» Неужели не жалко было губить такую красоту, спрашиваю. «Был бы карман потяжелее, – отвечает, – могли сохранить. Да ведь который год на трудодни ни шиша не дают. Чем же платить за сады? Предположим, собрали мы фрукты, можно было бы продать их, но до рынка – тридцать верст, а транспорта никакого. Да этих фруктов в Белогорске и своих полно, копейка им цена в базарный день. Так что налог за уют и красоту в садах оказался нам не по карману…»
– Слушай, Саша, – перебивая Васильева, сказала Татьяна, – а это интересно. И главное, по существу. Там, где речь идет о критике прежней системы налогов на селе, лучшего примера не придумать.
Читать дальше