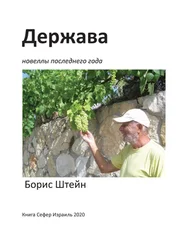Дядюшка Якуб всегда оставался в деревне чужаком, или, вернее, не таким, как другие. Он говорил со всеми на «вы», и с ним все говорили на «вы», здороваясь, он приподнимал шляпу и даже нас, детей, приветствовал таким же образом. Его криволицая дочь, чье бедро, как выяснилось с годами, срослось вовсе не так хорошо, уже совсем превратилась к тому времени в деревенскую жительницу. Она давным-давно перестала носить свои городские платья и ходила в одежде наших женщин, по воскресеньям же и праздникам — в такой великолепной, какой не было ни у одной из зажиточных крестьянок. Агнес бралась за любую работу, которую ей предлагали за еду и несколько грошей. Настоящей нужды они, пожалуй, не терпели: хлеб и картофель были всегда, а новой одежды им не требовалось.
Однажды я побывал у них в доме, в тот раз, когда принес посылку с чаем из Батавии. Разинув от удивления рот, стоял я перед круглым столом из вишневого дерева, креслами, обитыми бархатом и украшенными темно-красной бахромой, и сверкающим полированным красновато-желтым секретером с многочисленными ящичками, обшитыми латунью. Но самым диковинным — и самым прекрасным — показался мне стеллаж у стены, сделанный из того же, что и стол, полированного дерева, и на нем три ряда книг. Насколько я помню, все книги или по крайней мере большинство — с золотыми буквами на корешках. Я еще никогда не видел, чтобы у одного человека было столько прекрасных книг, даже у старого священника Радлубина, который сам писал книги в своем флигельке Штольбергского замка, где вот уже двадцать лет, как была больница. С этого дня я поверил рассказам моей матери о дядюшке Якубе, который «добрался до Америки», и о его отце Яне, который сто лет тому назад родился в доме, где мы теперь жили, и закупал «целые корабли, нагруженные товарами», так ни разу и не увидев моря.
Когда дядюшка Якуб счел, что настало время ему позаботиться о достойных похоронах, он продал свои книги и мебель из вишневого дерева, заплатил столяру за солидный гроб, каменотесу за гранитное надгробье и хозяину трактира, что на церковной горке, за пирог, кофе и две бутылки шнапса для поминок. Внес также священнику, сколько полагалось, за приличные похороны и вскоре затем умер.
Две бутылки шнапса остались на его похоронах недопитыми. Кроме шестерых носильщиков, криволицей Агнес и моей матери, там не было больше никого, кто мог бы его пить.
Агнес прожила после смерти отца еще двадцать лет, с каждым годом беднее. Повседневная одежда ее поизносилась, в праздничной завелась моль, а сама она ссохлась от старости. Голод, правда, старой женщине не угрожал, кусочек хлеба находился для нее у многих, а когда ей становилось холодно, было и местечко около чужих очагов. Она все чаще приходила к нам — «домой», как она, бывало, говорила. Мы, дети, смеялись над этими словами, думая, что у нее не все дома. Моя мать сердилась, и, пожалуй, тогда она впервые и рассказала нам историю о дедушке Агнес Яне — первом из нашей семьи, кому было разрешено ходить в школу.
Мы, правда, не считали школу таким уж похвальным новшеством. Тетушка Агнес — теперь так называли и ее — молча сидела на скамье у печки. Говорить ей делалось все труднее. Мы, дети, даже и не пытались разобрать, что она сказала. Как ни странно, моей матери это не составляло труда. Мне думается, она была единственной, с кем старая женщина могла до конца своей жизни поговорить — о тех, кто жил теперь, и о временах давно минувших.
Как-то однажды — вторая мировая война была уже позади, и возник страх перед возможностью третьей — тетушка Агнес в последний раз открыла железный сундучок, сожгла пожелтевшее, ни о чем больше не напоминавшее ей письмо и принесла моей матери монисты. «Пусть их носят твои дочери, когда станут невестами или подружками на свадьбе», — сказала она.
Умерла она неожиданно, даже не приболев.
Хоронили ее в один из тех поздних мартовских дней, когда у людей вновь появляется надежда, что все в мире наконец повернется к лучшему.
Когда бы ни надевала младшая дочь моей сестры свой великолепный праздничный костюм, она всегда носит на груди под переплетением бус тяжелые драгоценные монисты и даже не подозревает, как странно порой складывается все в жизни, прежде чем круг замкнется.
Перевод О. Бобровой.
МАРГАРЕТА НОЙМАН
После долгой-долгой замы
© Aufbau-Verlag Berlin und Weimar, 1974.
© Перевод на русский язык «Иностранная литература», 1977, № 1.
Это случилось в первый день, который мы провели в этом году за городом, после долгой зимы с сугробами и снежными бурями, с белой неподвижной равниной, там, где — мы уже и позабыли об этом — синело кудрявое от волн озеро. В пятницу весь день светило солнце, и было решено в воскресенье обязательно поехать на прогулку. Снег на крышах совсем стаял. Сначала мы поспорили; Роберт, разумеется, хотел погрузить всех в «вартбург», это всего удобнее. По дороге можно вылезти в любом месте, где понравится.
Читать дальше
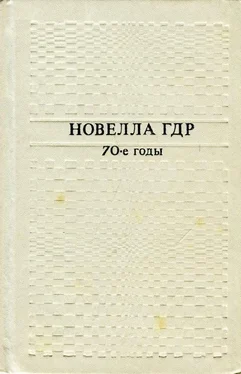

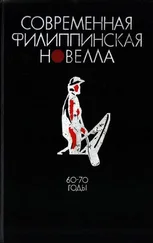
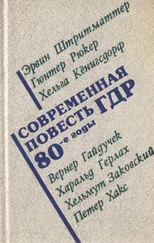

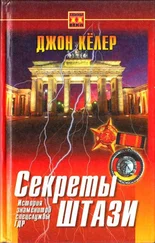
![Юозас Балтушис - Проданные годы [Роман в новеллах]](/books/201531/yuozas-baltushis-prodannye-gody-roman-v-novellah-thumb.webp)
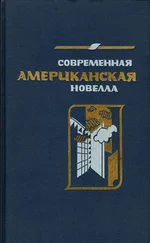

![Петра Вернер - Неожиданный визит [Рассказы и повести писательниц ГДР]](/books/414133/petra-verner-neozhidannyj-vizit-rasskazy-i-povesti-thumb.webp)
![Франц Фюман - Первый миг свободы [Рассказы писателей ГДР]](/books/414134/franc-fyuman-pervyj-mig-svobody-rasskazy-pisatelej-thumb.webp)