Нет, ничего. Ни Мэд, ни Джеммы, ни Автопортрета.
Согнувшись в три погибели, я обежал дом с одной стороны.
Скорость. Скрытность. Сноровка. Стремительность.
В правом углу дома через окно сиял свет: тусклый, красноватый, словно свет маяка сквозь шквальный ветер. Задвинутые шторы пропускают свет, но внутри ничего не видно.
Дойдя до задней стороны дома, я взошел на патио. Бурая мебель в пятнах, гриль, каменная оттоманка и стол, за которым уже сто лет никто не сидел. К патио вел ряд раздвижных стеклянных дверей. На этот раз никаких штор, только длинные вертикальные жалюзи.
Раздвинутые.
Я прижался лицом к стеклу, молчаливо изучая формы и цвета стандартной американской кухни: бежевый холодильник, серебряный тостер, черная микроволновка, коричневая плита. Однако под этой поверхностью я молчаливо изучал кое-что еще.
Не смотри на цвета, которые есть, Вик. Смотри на те, которых нет.
Я всегда подозревал, что картины Матисса живые; что они всматриваются в меня точно так же, как и я в них. И еще я думал о самом Матиссе. Сколько выдержки нужно было фовисту, чтобы закрасить все эти сияющие цвета, сантиметр за сантиметром. Закрыть их тусклыми красками. Какая сила воли! И оно того стоило. Фигуры на картинах ощущали свои цвета независимо от того, видели мы их или нет.
Я отправился в свою Страну Ничего и почувствовал пульсирующую вибрацию, взрыв цвета под поверхностью кухни: красный.
Так много красного.
Я потянулся к дверной ручке. Дверь была не заперта.
* * *
Воздух в бежево-красной кухне был лишь чуть теплее, чем снаружи.
Вот как я понял, что нахожусь внутри.
Ковры пахли кошками, стылой пиццей и дезинфицирующим средством.
Так я узнал, что попал в гостиную.
Пустые стены таращились на меня, нашептывая полузабытые воспоминания.
Так я узнал, что попал в коридор.
– Ну как они тебе? – спросила она шепотом, лежа в темноте на своей кровати, облаченная в ночнушку и тапочки. Рядом на тумбочке стояли две банки колы. – Я наконец довязала варежки. – Она протянула мне руки, восхищенно глядя на розовые пушистые варежки. – Мне тепло. Наконец-то мне тепло.
Так я узнал, что встретился с Джеммой.
Тишину прорезало хныканье, словно плакало животное, только смиреннее, отчаяннее и тише.
Так я узнал, что рядом была Мэд.
С другой стороны коридора скрипнула дверь. Я приложил глаз к щели. Там, в приглушенной красноте, была комната с задернутыми шторами.
Так я узнал, что Мэд была в беде.
Автопортрет сидел на полу спиной ко мне. Он говорил не просто невнятно; в его словах был настоящий яд, словно он ненавидел себя за то, что говорил. Сквозь щель я наблюдал, как он поднял огромную раскрытую ладонь и с силой опустил.
Визг. И плач.
– Тебе не разрешали прикасаться к той картине, – сказал Автопортрет, поднимая к губам бутылку и допивая остатки в несколько огромных глотков.
Ноги были самой спокойной частью моего тела: они повернули, прошли мимо комнаты Джеммы, зашли в гостиную, обошли рога с курткой Мэд и остановились перед стеллажом с ружьями. Я поднял вверх руку, снял винтовку, которая казалась ужасно тяжелой, повернулся и спокойно пошел обратно к красной комнате.
Я бы ни за что не смог никого застрелить. Даже если бы мыслитель сердцем во мне захотел нажать на курок, мыслитель мозгом вряд ли бы знал, как это сделать. Но мое правдивое сердце пришло к следующему выводу: большая, тяжелая винтовка ничуть не хуже бейсбольной биты.
Я натянул Базову бейсболку на глаза и толкнул дверь. Мои ноги продолжали идти, пока я не встал прямо за спиной Автопортрета. Он сидел верхом на Мэд, прижимая к полу руки и ноги моей Стоической Красавицы, моего первого поцелуя, моей первой любви, моего первого всего. Я подумал про близость Мэд, про слово «вместе», про Воронку Хинтон, про чувство, что я наконец стал собой, про ее тихо-милый голос, поющий про мусорки и фальстарты, про исключительность Альтной, про одновременные чрезвычайные противоположности, про сравнительное изучение запястий на крыше дома моих мертвых бабушки и дедушки… и все эти синяки… и виновен в этом Автопортрет. Виновен, виновен, виновен…
…
Все произошло стремительно.
Словно кто-то нажал быструю промотку моего тела. Я поднял ружье высоко над головой и опустил его со всей силы, и увидел, как две моих любимых картины Матисса превращаются в одно: Автопортрет упал на пол Красной Комнаты.
Я уронил винтовку.
– Я Суперскаковая лошадь, – сказал я.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



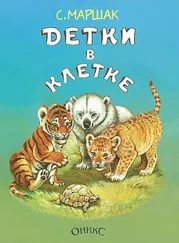



![Дэвид Арнольд - Очень странные увлечения Ноя Гипнотика [litres]](/books/398654/devid-arnold-ochen-strannye-uvlecheniya-noya-gipnoti-thumb.webp)

![Дэвид Арнольд - Электрическое королевство [litres]](/books/433639/devid-arnold-elektricheskoe-korolevstvo-litres-thumb.webp)


